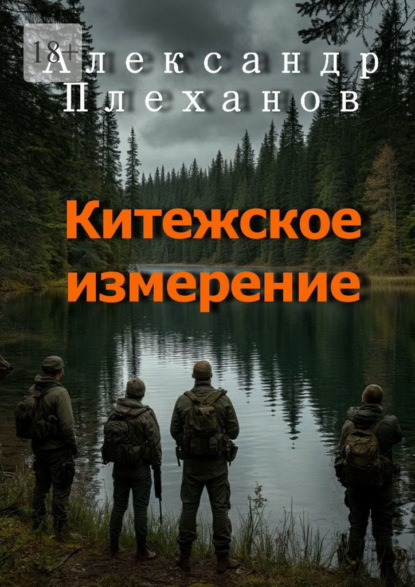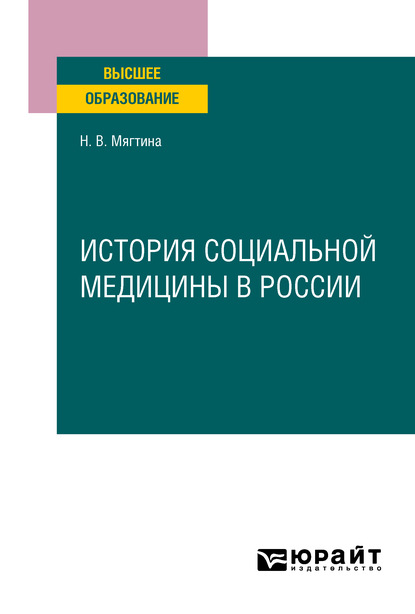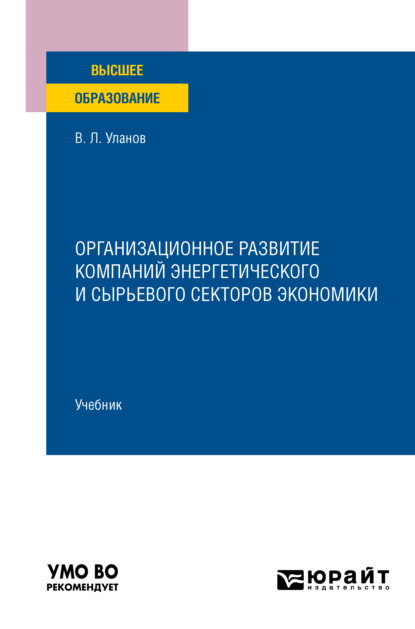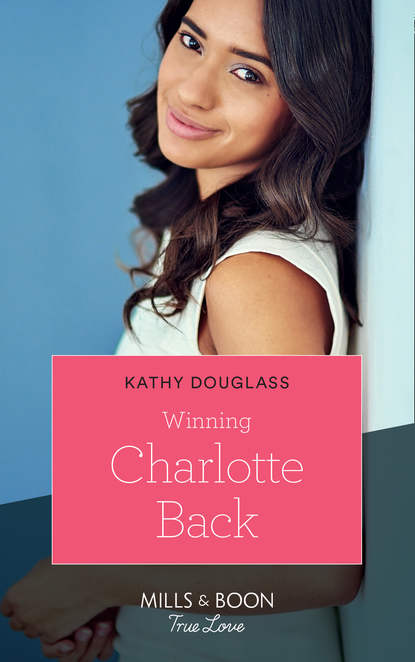- -
- 100%
- +

© Александр Плеханов, 2025
ISBN 978-5-0067-0804-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
«Этот мир – еще не весь мир».
Г. Майринк «Ангел Западного окна».
Старый трамвай, гремя на стыках рельс, миновал пожарную каланчу, свернул со Стромынки и медленно покатил по тихой зеленой улице. Справа, в обрамлении густой зелени, промелькнули строгие белые корпуса Остроумовской больницы, слева, открылась и тут же исчезла словно видение, легкая, воздушная, устремленная ввысь, церковь.
Конечная остановка. Дальше трамвай обогнет старое одноэтажное здание, бывшую ремонтную мастерскую и опять окажется в начальной точке своего маршрута.
Потапов мог сойти еще раньше, у метро, но специально проехал эту лишнюю остановку. От конечной был самый короткий путь до парка и именно туда Потапов сейчас стремился.
Сокольники… Мир его детства…
В последнее время он редко бывал здесь. Когда-то тихий и уютный, полудачный район, теперь превратился в шумный, пыльный, душный муравейник. Парк, единственное место, куда Потапов любил приходить отдохнуть и где каждая аллея и каждая лавочка напоминали ему о прошлом, стал таким же грязным и вульгарным как и все вокруг. Пустые бутылки, обрывки газет, грязь, пьяные на каждом углу, дурацкие аттракционы и люди, люди, люди…
Пытаясь скрыться от суеты, Потапов забирался все дальше и дальше, чуть ли не в Лосиный остров, но и там так же было людно и неуютно. Парк его детства, куда его совсем еще маленького водила мать, как-то быстро и незаметно умер, превратившись в суетливый, многолюдный кусок бестолковой Москвы.
Пройдя вдоль решетчатого металлического забора, которым неизвестно для чего когда-то был обнесен весь парк, он пролез в знакомую дыру. Дыру эту, сколько он помнил, несколько раз пытались заделать, но спустя некоторое время она появлялась вновь, словно символ человеческого упорства и целеустремленности.
Пройдя метров двести, Потапов наткнулся на торговый павильон: в последнее время они росли в парке как грибы после дождя.
Обычный ассортимент – пиво, водка, длинные бутылки с дешевым пойлом, выдаваемое за настоящее грузинское вино, соки, хот-доги с безвкусными сосисками и чебуреки с подозрительным мясом. Всю эту почти восточную пестроту дополняла громкая, бодренькая, глупенькая музыка.
Потапов взял бутылку «Смирновской», чебурек и пластмассовый стаканчик. Джентльменский набор, неизменный на протяжении последних пяти-шести лет.
Метрах в ста от павильона он заметил свободную лавочку. Людей поблизости, слава богу не было, а единственным соседом Потапова оказалась болезненного вида дворняжка с облезлой спиной, мелко дрожащим хвостом и грустными глазами. Несчастное животное занималось нехарактерным для собак делом – щипало траву.
«Лечится,» догадался Потапов.
Движением, доведенным до автоматизма, он аккуратно свинтил пробку со старорежимным портретом, как не раз до этого свинчивал взрыватели с мин, снарядов и бомб. Аккуратно, стараясь не пролить ни капли, он налил водку в стаканчик, и, выдержав положенную паузу, поднес его к губам. Неизвестно откуда взявшаяся парочка прошла мимо, старательно потупив глаза. Потапов опрокинул содержимое стаканчика в рот, и несколько секунд сидел неподвижно, наслаждаясь растекающимся внутри теплом.
– О-ох, – умиротворенно выдохнул он с наслаждением впиваясь зубами в горячий, брызжущий соком чебурек.
Дворняга перестала жевать траву и с испугом посмотрела на него.
– Ну что, животина, – дружелюбно сказал ей Потапов, вытаскивая из кармана мятую пачку «явы», – болеешь?
Может, это и не всегда нравилось окружающим, но Потапов никогда не мог пить один; ему необходимо было общение. Неважно с кем, главное, чтобы его слушали. Но, почему-то, единственными нормальными слушателями были лишь маленькие дети и неагрессивные животные. С ними проблем, как правило, не возникало, чего нельзя было сказать обо всех остальных вольных, а чаще невольных собеседниках Потапова. Сломанный нос и рассеченная бровь служили лишним тому подтверждением.
– На, – Потапов бросил дворняге кусок чебурека, – жрать—то, небось, хочется?
Собака испуганно обнюхала чебурек, осторожно взяла его и на всякий случай отошла подальше, словно боясь, что этот странный человек с бутылкой вдруг передумает и заберет эту диковинную еду обратно.
«Я, наверное, так же паршиво выгляжу», внезапно подумал он, «так же паршиво, как эта собака».
А ведь еще совсем недавно все было не так. Он еще достаточно отчетливо помнил себя другим. Алкоголь и безысходность еще не стерли из памяти картинки из той, предыдущей жизни, хотя с каждым днем они становились все более тусклыми, выгорая на холодном солнце пустого существования.
Думал ли старлей Потапов, что когда-нибудь, он, опустившийся и жалкий, будет сидеть в парке в обществе больной дворняги и дуть водку, словно заправский алкаш?
Как заправский алкаш он быстро захмелел и память тут же потащила его в бесконечное скитание по пыльным лабиринтам прошлого.
Он вспомнил все: и тяжесть миноискателя в руках и тревожное попискивание в наушниках, пыль, жару, разъедающий глаза пот и постоянный, въевшийся в поры души, страх. Вспомнил сухую, каменистую землю, напичканную смертью. Яркие пластиковые мины, неразорвавшиеся снаряды, радиоуправляемые фугасы и частые, вздымающиеся в белесое афганское небо, буро-черные грибы взрывов, в которых исчезали его солдаты, его друзья и он сам, рано или поздно, должен был исчезнуть точно так же, но Бог, или его антипод, сохранили его непонятно для чего. Для безрадостного, нищего конца.
Уж лучше бы лежать ему, вернее тому, что обычно остается от саперов после той самой единственной ошибки, где-нибудь под Кандагаром, под скромной пирамидкой со звездочкой, со ста граммами и с куском хлеба в головах…
Теплый июньский день, веселое, жизнерадостное щебетание птиц, густая зелень, ярко-синее небо, веселые солнечные блики не радуют его. На душе муторно и пусто.
Сегодня ему позвонил дед. Единственное родное существо оставшееся на этом свете. Такое же одинокое как и сам Потапов.
Чего он хотел? Может денег попросить? Ему, небось, ни черта в его архиве не платят. Да что Потапов может ему дать, кроме своей инвалидной пенсии? Самому жить практически не на что, наверняка у какого-нибудь бомжа с «Трех вокзалов» рацион бывает богаче, чем у бывшего офицера Советской армии Потапова. Он вспомнил офицерскую столовую в Кабуле и непроизвольно потянул чебурек в рот.
В конце аллеи показался импровизированный поезд: закамуфлированная под паровоз легковушка тащила за собой несколько вагончиков с радостно орущей детворой. Хмурый дядя с бутылкой водки и облезлая собака, к явному неудовольствию родителей, вызвали у детишек неподдельный интерес.
Парк он покинул также через дыру в заборе, только на противоположном его конце. Когда-то через эту дыру он ходил с ребятами на каток к бездействующему зимой фонтану, через неё же, став чуть постарше, он попадал на дискотеки, а однажды спасался бегством после разгромной драки с «преображенской» шпаной.
Пройдя вдоль бесконечного забора он пересек вечно оживленный Сокольнический вал и, спустя минуту, оказался в своем дворе. Серый угол дедовской пятиэтажки молчаливо приветствовал его.
Двор изменился и, конечно же, в худшую сторону.
Теперь он был пустынным и радостный детский гомон не населял его как раньше. Несколько убогих лавочек вокруг покосившегося мухомористого грибка, вычерпанная до дна песочница и кастрированные качели.
Много лет назад, жилец из второго подъезда Петухов, как-то ночью, по-воровски, спилил качели. Сделал он это, как выяснилось, из благих побуждений, опасаясь за жизнь своего сына. Петухов-младший, приводя весь двор в ужас, норовил на этих самых качелях сделать «свечку»: лавры доблестных советских космонавтов, по-видимому, не давали ему покоя. Скорее всего, своего он рано или поздно добился бы, но партизанская выходка его папы, вышедшего в ночное с ножовкой по металлу, помешала осуществлению героической мечты.
Сына Петухов спас, но сам, как злостный хулиган, сел на полтора года.
В подъезде все так же пахло чем-то кислым, а под лестницей, где в свое время Потапов познакомился с табаком и алкоголем и чуть было не познакомился со всем остальным, жалостливо попискивали котята. Привычные запахи, привычные звуки, привычные одиннадцать ступенек до обитой коричневым дерматином двери…
– Ты чего так долго? – вместо приветствия недовольно спросил дед, – опять пил?!
– Чуть-чуть.
– Ничего себе чуть-чуть, – дед подозрительно засопел, принюхиваясь, – разит за километр.
Старая, родная квартира. Здесь Потапов родился и вырос. Он знает эту квартиру, все ее особенности, ее характер и ее тайны. Все так же слезливо сочится кран в ванной и хлопает от сквозняка расшатанная форточка, которую, почему-то, никто никогда не пытался укротить. Знакомо поскрипывает паркет при входе в спальню, помнящий самые первые шаги маленького Потапова. Трещина в оконном стекле, напоминание о чьих-то детских шалостях, неумело залеплена синей изолентой, а в коридоре все тот же неуловимо-стойкий запах гуталина. Дед терпеть не мог грязную, нечищеную обувь и всячески прививал эту нелюбовь Потапову. Увы, пыль афганских дорог намертво въедалась в кирзу, сколько ее не чисть…
Потапов прошел на кухню, выставил бутылку на стол и уселся на жалобно скрипнувшую табуретку. Заныла старая рана под коленкой.
– Ты вот чего, – дед решительно указал на бутылку, – эту штуку убирай.
Разговор у меня к тебе.
– Нога болит, – скривился Потапов, – только так и спасаюсь.
– Знаю я тебя, – буркнул дед уже не так строго, – то нога, то еще что нибудь.
– Да, правда, ты же знаешь.
Конечно же, дед все знал и помнил.
Ташкентский госпиталь, под завязку забитый раненными; кто без рук, кто без ног и, среди них, его единственный внук Андрюша, в бинтах, в гипсе, на костылях, но слава богу, живой. После внезапной смерти дочери, матери Потапова, внук стал для деда чем-то гораздо большим, чем просто родным человеком. И, едва узнав о его ранении, дед бросил все свои дела и через всю страну кинулся к нему в Ташкент. В госпитале он находился с ним до последнего дня, до комиссования.
– Ты сам-то будешь?
– Нельзя мне, – хмуро покосился на бутылку дед.
– Почему? С каких это пор?
– «Скорую» вчера вызывал. Сердце что-то прихватывать стало.
– Да ты что?! – Потапов испуганно уставился на деда, – чего же ты сразу не сказал?!
– Да чего говорить, ведь не помер же, – дед поспешил сменить эту, неприятную ему тему. – Ты то как? Все так же?
– Все так же, – мрачно кивнул Потапов.
– И никаких перспектив?
– Откуда же им взяться?!
Перспектив действительно не было. Кому нужен отставной сапер-полуинвалид?! Даже грузчиком устроиться и то проблема.
– Эх, Андрюша, Андрюша, – покачал головой дед, – плохо это.
И неожиданно добавил:
– А я, наверное, помру скоро.
– Да что ты, в самом деле?! – Потапов даже вскочил с табуретки, – и так хреново, и ты еще…
– Сядь! – резко сказал дед.
Потапов растерянно повиновался.
– Сядь, не скачи, – дед тяжело вздохнул.
Потапов нервно поковырял ногтем дырку в старой, целлофановой скатерти.
– Пропадаешь ты, Андрюша, – глядя куда-то в пол грустно проговорил дед, – зазря пропадаешь.
– Да ничего я не пропадаю, – попытался возразить Потапов, но дед лишь устало махнул рукой
– Короче, разговор у меня к тебе есть. Серьезный разговор.
Дед внезапно замолк и некоторое время отрешенно глядел сквозь Потапова. Потом так же внезапно продолжил:
– Помочь я тебе хочу. Никому, никогда, даже бабке твоей и матери не говорил я об… этом, но сейчас, наверное, время пришло. А то так и унесу с собой…
– Ты о чем, дед?
– Не перебивай! – раздраженно махнул рукой дед, – слушай и молчи!
– Молчу.
– Дело серьезное, Андрюша.
Дед бросил быстрый взгляд на бутылку.
– Ты что за гадость пьешь-то? «Смирновскую»?! Плесни-ка чуток, самую малость.
– А сердце?
– Да ладно…
Потапов разлил водку.
– Все в этом мире, Андрюша, делается ради денег, – дед неуверенно опрокинул стопочку, пожевал губами, как бы сомневаясь в правильности содеянного и утер рот сухонькой ладошкой. – Все завязано на деньгах. Поэтому, лучше быть богатым, чем бедным. Да что тебе говорить, ты и сам это не хуже меня знаешь. Конечно, как говорят, счастье не в деньгах, но если их нет, то нет и счастья. Нет и быть не может, потому, как счастье тоже любит деньги. Все несчастья от бедности и все несчастные, как правило, бедны. А я богат, но не могу сказать что я шибко счастлив.
Потапов удивленно посмотрел на деда.
– Ты так на меня не смотри, я из ума еще не выжил! – дед ткнул пальцем в пустую стопку и Потапов поспешно налил, – раз я говорю что я богатый, значит так оно и есть.
– Я… не совсем понял…
– Сейчас все поймешь, – дед на этот раз более решительно опрокинул стопку.
Потапов внезапно почувствовал как внутри его покалывает неприятный холодок – словно в предчувствие чего-то нехорошего. В последний раз такое с ним было в Афгане, в тот проклятый день, когда он, проверяя очередную дорогу, вдруг отчетливо, прямо под ногами, услышал громкий хруст взводимого взрывателя…
Вся жизнь, что была до этого момента, разом перестала существовать, остался лишь обжигающий внутренности холод.
Он, застыв на месте, беспомощно уронил ненужный теперь миноискатель и стянул с головы наушники. Все, кто были вокруг, поняли что случилось, их посеревшие лица медленно приближались и на каждом из них Потапов читал собственный приговор. Сержант Соломатин подошел первым, губы его шевелились, но что он говорит, Потапов не понимал. «Где она, твою мать!» откуда-то издалека приплыл истеричный выкрик. Соломатин, упав на колени поспешно отстегивал с пояса штык-нож. Взрыватель затаился где-то под пяткой. Туда, под стоптанный, пыльный каблук сапога Соломатин и загнал штык. На Потапова быстро натянули бронежилет и сунули в руки тяжеленную, килограмм на пятьдесят связку танковых траков. «Кажись есть!» Соломатин напрягся всем телом, придавливая штыком взрыватель, «отходи!» Потапов, обливаясь холодным потом, медленно приподнял ногу. Сейчас, освобожденный взрыватель должен выскочить наверх и Потапов с Соломатиным дружно исчезнут в облаке взрыва. То, что от них останется закопают здесь же, на обочине, под наспех сколоченной пирамидкой со звездочкой и коряво написанными фамилиями.
«Х..ли ждешь?!» прохрипел Соломатин, «клади!». Взрыва не последовало и Потапов, еще не веря в свое спасение, аккуратно придавил траками напряженно дрожащий штык. На четвереньках они отползли подальше, за спасительный стальной борт сопровождавшего их бэтээра и в этот момент, когда, казалось бы, все уже осталось позади, откуда-то сзади, с гор затрещали автоматные очереди. По броне бэтээра, противно визжа, ударили первые пули, Потапов рванул со спины автомат, но внезапно увидел собственный разорванный сапог, дымящуюся кирзу и стекающую по голенищу темно-вишневую жижу…
– Чего задумался? – дед встал и не спеша прошаркал к холодильнику. Ковырялся он там долго, хотя Потапов прекрасно знал, что холодильник у деда пустой.
– Сыр будешь?
– Да нет, спасибо…
– Кто же пьет не закусывая?! – дед положил на стол крошечный кусок сыра, – эдак мы захмелеем, а разговор у нас долгий.
Потапов пожалел, что не зашел по пути в булочную и не купил хотя бы батон хлеба, но дед, словно читая его мысли извлек из холодильника полбуханки бородинского и банку маринованных огурцов.
– Простая пища – самая полезная, – нравоучительно изрек он, – наливай!
На этот раз выпили почему-то не чокаясь.
– Так вот, – закусив огурцом продолжил дед, – дело в том, Андрюша, что своим богатством я хочу поделиться. Кроме как с тобой, мне делиться не с кем. К тому же оно тебе нужнее. Ты еще молодой и оно тебе пригодится больше чем мне. Но, – дед предостерегающе поднял палец вверх, – то что ты сейчас узнаешь, может очень здорово изменить твою жизнь. И необязательно в лучшую сторону. Потому, как я уже тебе говорил, все в этом мире завязано на деньгах. А у нас речь пойдет о больших деньгах. Об очень больших деньгах. А большие деньги – это бездна. Человек перед бездной бессилен. Как правильно заметил кто-то из древних, чем пристальнее ты всматриваешься в бездну, тем пристальнее и она всматривается в тебя. Так что подумай, Андрюша, стоит ли связываться с бездной?
– Дед, я не совсем понимаю, о чем речь? – Потапов никак не мог уловить суть, – ты хочешь со мной поделиться? Чем?
– Я же тебе говорю, что я очень богатый человек. Уж наверное мне есть чем поделиться!
«Съехал он что-ли?» раздраженно подумал Потапов, «несет какую-то пургу, это даже не смешно!»
– Дед, ты меня извини, но я ничего не понимаю.
– Так я тебе все расскажу. Если ты хочешь.
– Хочу.
– Тебе рассказывать все с самого начала, или только про то, что тебя интересует?
– Рассказывай все, – решительно согласился Потапов. Он не знал, что его конкретно интересует, но решил, что упускать из этого странного разговора с дедом не следует ничего.
– Хорошо, – дед удовлетворенно кивнул, – ты сам захотел. И плесни-ка еще.
– Тебе не много? С твоим сердцем?
– Для такого разговора в самый раз, – дед пожевал губами, провел сухонькой ладошкой по лицу, словно отгоняя какое-то неприятное воспоминание и не спеша начал:
– Было это году в пятьдесят шестом. Я тогда был еще молодым пацаном, вроде тебя и всюду совал свой нос. Время было интересное. После Сталина открывались некоторые архивы, и работы было много: кое-что нужно было подчистить, кое-что вытащить на свет божий, а кое-что и запрятать подальше. И вот как-то раз, совершенно случайно, попал ко мне один странный документик времен гражданской войны. В нем группа красноармейцев во главе с неким комиссаром Нестеровым утверждали, что в девятнадцатом году, близ города Семенова, в глухих нижегородских лесах, наблюдали странное явление. Прямо посередине озера, сильно обмелевшего из-за страшной жары, появились купола церквей. Далее, утверждал Нестеров, по ночам раздавался непонятный колокольный звон, до смерти пугавший суеверных красноармейцев. Кто звонил в колокола, выяснить не удалось, так как буквально через день зарядили дожди, и купола опять исчезли под водой. Самое удивительное заключалось в том, что этот самый комиссар Нестеров работал в нашем архивном управлении. Тогда он уже, разумеется, не был комиссаром, но должность занимал соответствующую – он был начальником Первого отдела. С этим документиком я прямо к нему и пошел. Объясните, дескать, Петр Иванович, что делать с этой странной, непонятной бумажкой. Нестеров посоветовал мне ее «вычистить»: история, дескать, старая, сам он тогда молодой был и ничего уже не помнит, да к тому же аккурат перед войной соответствующие органы занимались этим самым делом, так как там постоянно происходила какая-то чертовщина. Но так ничего вразумительного выяснить не удалось и дело это похерили. Тем более, что никакой угрозы для советской власти оно не представляло. Говорил Нестеров убедительно, но как-то не так. Когда я спросил его, что же он все-таки видел, он довольно-таки резко посоветовал мне об этой «ерунде» забыть. И забрал документ себе. Это мне показалось очень странным. Сам посуди: человек увидел что-то непонятное, составил даже документ с подробным описанием увиденного и, вдруг, все забыл! Как такое вообще можно забыть?! Что-то тут не то. Ведь, как известно, просто так ничего не бывает. Как говорил Шекспир «из ничего не выйдет ничего». Тем более, если за такое дело даже брались органы. И я полез в архивы. Просто так, из любопытства. И вот тут-то, почти сразу же, всплыло это загадочное название – Китеж!
Дед с некоторым беспокойством посмотрел на бутылку и на свою пустую стопку. Потапов молча разлил остатки «Смирновской».
– Я сначала относился к этому как к сказке, – дед довольно улыбнулся, – но, поверь мне, не бывает на свете сказок. Все, что есть в сказках, было когда-то на самом деле. Просто дошло до нас в сильно искаженном виде. А если подойти к этому делу серьезно, если копнуть поглубже, то очень быстро поймешь, что любая сказка или легенда имеет под собой вполне реальное основание. Свой фундамент. Базис.
– Ну, если это так, – Потапов снисходительно усмехнулся, – то, получается, и Змей Горыныч и Кащей Бессмертный были на самом деле?
– А ты докажи, что их не было, – живо парировал дед, – у тебя есть какие-то факты?
– Точно так же, как их нет и у тебя.
– Ну и что, что нет? Просто я этим вопросом не занимался, а Змей Горыныч мог реально существовать хотя бы потому, что он задокументирован.
– Что?! – Потапов чуть не расплескал стопку, – задокументирован?!
– Да, задокументирован, – невозмутимо подтвердил дед.
– Где же?!
– Да хотя бы в сказках.
– Опять сказки. Тоже мне документ! – фыркнул Потапов, – на заборе, извиняюсь, хрен «задокументирован», что же теперь, всему верить?
– Ну, здесь ты не прав. В свое время Шлиман начал искать Трою исключительно по гомеровской «Илиаде», которая была самой что ни на есть сказкой. И нашел же! Так, почему, спрашивается, не может существовать какой-нибудь Змей Горыныч?
– Ну, это же несерьезно.
– А ты докажи! Докажи, что его нет.
– А ты докажи, что он есть.
– Ладно, мне продолжать, или еще поспорим? – дед раздраженно толкнул пустую стопку.
– Да, продолжай, конечно, – Потапов примирительно улыбнулся.
В прихожей размеренно, даже как-то лениво загудели старые напольные часы.
– Ну, так вот, – недовольно пробурчал дед, – в общем, я вышел на Китеж. Через полгода я знал о нем почти все и, в то же самое время не знал ничего. Да, вроде был город, но, может, и не было, так как на его месте сейчас озеро. С другой стороны, ни у одной из легенд нет точного адреса, а у этой есть. Так что же здесь больше, правды или вымысла? Оказалось, больше правды. А понял я это совершенно случайно. Изучая нашествие Батыя, я наткнулся на один непонятный мне момент. В котором, как выяснилось, и скрывалась отгадка. Удивительно, – дед радостно потер руки, – как мне это сразу в голову не пришло? И уж совсем непонятно, почему это понял только я?
Короче, весной 1238 года, после окончательного разгрома Руси, после битвы на реки Сити, после несостоявшегося похода на Новгород, батыева орда повернула обратно в степи. К тому моменту она распалась как бы на несколько орд, которыми руководили ставленники и родственники Батыя и которые действовали независимо друг от друга. Сам Батый, двигаясь впереди своих орд, в начале марта осадил Нижний Новгород, довольно легко его взял и… внезапно повернул обратно, на север! Пройдя почти семьдесят километров в направлении Семенова, который тогда был почти деревней и, естественно, никакого интереса для Батыя не представлял, орда так же внезапно разворачивается и, теперь уже без задержек, уходит в поволжские степи. Чем это можно объяснить?
Дед, кряхтя, встал и ушел в комнату. Вернулся он спустя пять минут с новой бутылкой водки и… сложенной вчетверо старинной картой, явно позаимствованной из какого-то архива.
– Вот смотри, – дед ткнул пальцем в карту, – видишь какой крюк?
Потапов внимательно стал вчитываться в старые, с ятями, названия городов, сел, деревень, рек и озер. Перечеркивая всю карту, с севера на юг, тянулась длинная красная стрела, острием своим упираясь в Нижний Новгород. От него отходила другая, поменьше, не стрела уже, а стрелочка. Сделав крюк вокруг маленькой точки под названием Семеновъ, стрелочка превращалась в жиденький пунктир и убегала за Волгу.
– Действительно крюк, – согласился Потапов, – но почему?
– Я тоже долго думал почему, – дед хитро улыбнулся, – очень долго. Вот ты, человек военный, объясни мне, для чего нужен такой маневр?
– Ну, знаешь ли, – улыбнулся Потапов, – причин может быть столько…
– А ты представь себе 1238 год, батыева орда, тысяч, эдак пятьдесят народу, огромный обоз с награбленным добром, и вдруг, ни с того, ни с сего, вся эта махина разворачивается на сто восемьдесят градусов и продираясь сквозь дремучие леса, движется неизвестно куда и, что самое интересное, неизвестно зачем. Объясни, зачем?
– Значит, было зачем.
– Ну, это и ежу понятно, – хмыкнул дед, откручивая пробку, – давай думай, стратег.
– Наверное, они кого-то преследовали, – предположил Потапов, – или чего-то преследовали.
– Кого-то, чего-то, – дед разлил водку по стопкам, – это и так ясно. Но, в принципе, правильно. Преследовали. Только кого? Или чего?
– Ну, уж этого я не знаю, – развел руками Потапов, – я не специалист.
– Давай, – дед поднял свою стопку, – за специалистов.