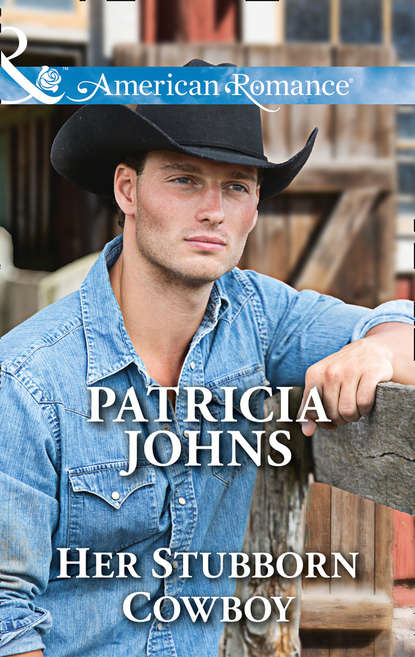- -
- 100%
- +
Я чувствовала, как ломаются мои рёбра – каждый треск отзывался эхом в ушах. Но сильнее всего било другое – их слова. Их жалкие попытки спрятать своё уродство за великими словами. «Ты сама выбрала». «Ты знала, что будет». «Ты – ошибка». Так отец говорит дочери, когда не в силах признать, что сам убивает своё дитя.
И они молились. Да, молились. Шептали слова Мертвецу, не чтобы спасти себя или меня, а чтобы унять дрожь. Как дети, что прячутся под одеялом от чудовища, которым стали сами.
Я не отвернулась. Я смотрела. И потому они в конце били по лицу – не чтобы добить, а чтобы исчезло то, что смотрело. Чтобы не видеть. Чтобы забыть.
Но я была с ними до последнего. И осталась после.
А потом они подожгли дом. Потому что запах горящей плоти был понятнее, чем Истина. Потому что пепел легче переносить, чем Взгляд. Но Свет не исчез. Он остался в их страхах, в их бреду, в их дрожащих снах.
Они пришли.
Вернее, не пришли – их принесла тьма.
Тишина вошла первой. Она поползла по стенам, забралась под кожу, осела в горле.
А потом вошли они. Мор'таэль.
В церкви, где когда-то молились за прощение, теперь молились, чтобы остаться незамеченными. Чтобы гнев не обернулся к ним лицом. Чтобы Мор'таэли прошли мимо. Чтобы те, кто пришли за правдой, не увидели их. Шептали имена всех богов, даже тех, в кого давно не верили – лишь бы уговорить Тьму не смотреть в их сторону.
Двое убийц Даницы стояли у алтаря. Они говорили: «Таких нужно уничтожать! Жечь! Нас вёл наш долг! Здесь нет нашей вины, мы следовали за Пророком и за Сыном божьим! Мы делали то, что должно!»
Голоса их были липкими, голосами трусов, изливавших своё раскаяние не в жертвенник, а в уши толпы.
Люди защищали и оправдывали убийц, прикрывали их собой.
– Они невиновны!
– Они следовали заветам!
– Они спасли нас! Защитили от еретички и её тьмы!
Их страх за других был маской страха за себя.
Но Мор'таэли не слушали.
Их не нужны были мольбы или раскаяния.
Они ворвались, как суд, как буря.
Их было восемь.
И каждая несла кару.
Толпа закричала. Люди бросались на Мор'таэлей – не в защиту, а в отчаянии, пытаясь остановить неотвратимое. Кто-то хватал за руки. Кто-то становился на колени. Кто-то плакал:
– Пощадите! Они невиновны!
Их руки сцеплялись, как звенья цепи из плоти. Их тела ложились на путь, как жертвенные. – Убийцы не останавливались, отчего мы должны? – пророкотал голос Мор'таэль.
Мор'таэли прошли сквозь них. И толпа пала.
Одна за другой, фигуры гасли, как пламя на ветру. Не было крика. Только свист мечей, рассекающих воздух, треск костей и звук падающих тел.
Мор'таэли не пощадили никого, кто осмелился назвать убийц невинными.
Мясо, что прикрывает зло, гниёт первым.
Они нашли их на коленях стоящими. Один умолял. Второй проклинал.
Оба молились Мертвецу.
И тогда Мор'таэль сказала:
– Мёртвый не спасает мёртвых. Он лишь греет их ложью. Голос был, как треск ломаемого дерева – чуждые речи, но насыщенные смыслом. Каждое слово – заноза в реальности.
Когда пришла кара, они не могли двигаться. Их тела дрожали, ноги не слушались. Страх пропитал суставы, высушил голос, сковал дыхание и связал их. Пульсирующая липкая нить, что склеила кости и мысли.
Одна вливала их же кровь в их рты. Чтобы не дать им умереть. Чтобы каждое мгновение было вечностью.
Вторая сшила им веки нитями, из их собственных волос. Она вытягивала волосы по одному – и превращала в нить. Медленно. Мучительно. Сшив веки, она зашептала: «Теперь вы не отвернётесь.»
Третья ломала им кости. Не сразу – по чуть-чуть.
Как игрушку, которую не жалко, но хочется сломать красиво.
Четвёртая забрала воспоминания. Все – кроме одного.
Её взгляд.
Тот, что остался, когда в ней уже не было глаз.
Пятая резала по кости. Так, чтобы тело не умирало. Чтобы боль была не концом, а возвращением.
Шестая заточила их разум в петлю.
И снова, и снова, и снова они слышали:
– Это был наш долг.
– Это была просто девчонка.
– Мы сделали, что велели Пророк и Сын божий.
– Это не наша вина.
Эти слова стали кнутами, от которых слазила кожа, оголяя боль.
Седьмая шептала их же оправдания.
Непрерывно.
И слова эти стали пыткой – даже не смысл, а звук их голоса.
А Восьмая…
Восьмая не говорила. Не ломала. Не резала.
Она просто стояла рядом.
И смотрела.
И они знали: если бы у Тьмы было лицо – оно было бы её.
В центре стояла Пустота.
Та, что раньше была Светом.
Она не смотрела.
Она больше никогда не смотрела.
Они не умирали.
Им не давали умереть.
Дни и ночи, крик и шёпот, молитвы и тьма сменяли друг друга.
Кара длилась долго. Дольше, чем может вынести время.
Бесконечно.
Так Тьма наказывает тех, кто тронул Её Дитя.
Теперь знай: не всякий, кто слушает, способен услышать. И не всякий, кто смотрит, достоин увидеть. Мы передаём Знание через плоть, от боли к боли. Пусть воспоминания сохранит не только разум, но и тело.
Знай, что Знание не было дано без крови, не было принесено без предательства.
13
Цена Пути
Денница стояла перед Бездной. Голос её был глухим, как туман, который тянется по пустой комнате.
– Почему я не чувствую её?
Ответ пришёл не словами. Он просто проник в её сознание, холодный и тяжёлый, как камень.
– Потому что её Путь завершён. И ты не можешь ничего изменить.
Денница сделала шаг вперёд. Она ничего не видела, кроме пустоты, которая сжимала её, как цепи.
– Я… я правда не знала, – голос Денницы дрожал. Она говорила быстро, захлёбываясь, как будто тонула в собственных словах. – Всё это время… Я думала, что… она просто устала, замкнулась… Ты же знаешь, я пыталась…
Она осеклась, всхлипнула. – Я ведь пыталась…
Бездна молчала. Не из жестокости – из неизбежности.
– Скажи что-нибудь! – Денница сделала шаг вперёд, в пустоту. – Почему ты не остановила это?! Почему молчала, когда она… когда она уже тонула?!
И тогда Бездна заговорила. Голос её не был громким, но он звучал резче любого крика, проникая в самое сердце.
– Потому что молчала ты, не я.
Денница пошатнулась.
– Это ложь. Это несправедливо… – она цеплялась за эти слова, как за край обрыва. – Я не видела. Никто не видел. Она… она ничего не говорила.
– Но ты слышала.
– Нет… – прошептала она.
– Ты чувствовала.
– Я…
– Ты отворачивалась. Каждый раз, когда боль дотрагивалась до тебя, ты закрывала глаза. Не потому, что не могла – потому что не хотела.
Её дыхание сбилось. Плечи ходили ходуном. Она была близка к тому, чтобы рухнуть на колени – не перед Бездной, а перед самой собой.
– Это не так. Ты хочешь, чтобы я поверила, будто была слепа по своей воле? Что мне было удобно не замечать? – теперь в её голосе звучал вызов, истеричный и яростный.
– А разве не было?
И снова тишина. Но уже внутри. Словно что-то внутри неё встало – и посмотрело на неё. Не с укором. С знанием.
– Я… хотела её спасти… – выдохнула она. Но голос был уже другим. Пустым. Как будто проговаривала выученную мантру, чтобы заглушить что-то хрупкое и живое, что вот-вот прорвётся наружу. – Я сделала всё, что могла…
Бездна не возразила. Это было бы бесполезно. Она уже сказала главное.
И тишина, которая последовала, не была молчанием – это было признание, которое не дошло до сознания. Потому что дойти – значило бы рухнуть. А Денница не могла позволить себе этого.
– Она стала той, кем должна была стать, – голос Бездны звучал глухо, будто изнутри самой плоти мира. – Её боль, её мука – не просто бремя, а исток. Ты не можешь забрать это. Это её Путь. Не твой.
С каждым словом внутри Денницы что-то оседало. Не просто надежда – сама ткань иллюзий, в которую она заворачивала свою вину, начинала трескаться.
– Почему? – выдох сорвался с её губ, как мольба, как обвинение. – Почему ты не спасла её? Почему ей пришлось пройти через это одной?
Бездна не торопилась с ответом. Она не утешала.
– Ты всё ещё ждёшь, что я буду милосердна. Но я – не спасение. Я – Истина. Я не вмешиваюсь. Я позволяю случиться тому, что должно. Так устроен Путь. Ты хочешь верить, что была возможность всё изменить. Что была дверь. Но дверь была внутри тебя. И ты её не открыла.
Денница зажмурилась, но тьма внутри не исчезла – наоборот, сгустилась, проникла в каждый нерв, в каждый уголок памяти.
– Тогда… она… она не вернётся? – голос её дрогнул.
– Нет.
Слово повисло, не требуя объяснений. Оно не означало смерть. Оно означало завершение. Конечность. Невозвратимость.
Денница опустилась на колени. Не в молитве – в отказе. Мир стал тяжёлым, как свинец. Казалось, даже воздух отвернулся от неё.
– Я… я потеряла её, – произнесла она, едва слышно. – Я не успела. Я не была рядом она нуждалась во мне…
Бездна не смягчилась.
– Ты потеряла её, Денница. Но не внезапно. Не случайно. Ты знала. Ты всегда знала, чем всё закончится. Ты просто надеялась, что ошибаешься.
Эти слова не разорвали её. Хуже. Они стали тишиной внутри, от которой некуда было убежать. Всё внутри замкнулось. Бездна не говорила больше.
Денница осталась на коленях. Перед собой – ничего. Ни света. Ни ответов. Только тяжесть. И правда, которую она не хотела признавать.
И с каждой секундой становилось яснее – она не потеряла Даницу, она отдала её. Просто не хотела этого признать.
14
В тени прощания
Среди обугленной плоти, с каменным сердцем, я встала на ноги. Всё внутри было тяжёлым, как свинец. Ни боли. Ни крика. Ни жизни. Только звон пустоты.
Поле выло в огне. Колосья, раскачиваемые бешеными порывами ветра, хлестали по моему телу, перехватывая пламя с обугленной плоти. Ветер не приносил спасения – он раздувал костёр, словно сам мир жаждал сгореть вместе со мной.
Пламя текло по коже, жадно облизывая каждый стебель, и воздух вокруг трещал, как старые кости. Земля под ногами стонала от жара, а небо расползалось трещинами, будто не выдерживая этой агонии. Я шла сквозь пламя, неся в себе его ярость, его ненасытную жажду – живая, горящая, обречённая стать пеплом.
Я всмотрелась вдаль уставшим, невидящим взглядом – и увидела Врата. Те самые. Те, что я жаждала увидеть больше всего на свете. Сколько раз я молила их появиться, сколько раз ползла, царапая землю, в поисках пути домой – и всё впустую.
А теперь они просто были. Стояли передо мной, как дверь в дом.
Я могла бы войти. Но не пошла.
Я отвернулась. Без сожаления. Без надежды. Я была слишком мертва, чтобы желать возвращения.
И тогда я оказалась в Холхельведе. Не телом – тенью. Шаг за шагом, я шла не к свету – к Деннице.
Я не знаю, как добралась. Ноги шли сами, будто всё уже случилось. Будто я была тенью себя, без плоти, без веса. Без Света.
В груди – пусто. Где-то должно быть сердце, но оно, наверное, осталось там, под ударами, под сапогами. Я шла, и боль оставалась позади. Больше не болело. Ни тело. Ни душа. Ничего. Только гул.
Дверь отворилась. Я не стучала. Я не могла. Просто стояла.
Она – Денница – стояла посреди чертога, и её лицо светилось, как в детстве, когда я возвращалась домой.
Она шагнула ко мне – и застыла. Потому что поняла. Всё поняла. До слов, до прикосновений.
Я увидела, как умирает её надежда. Как в её глазах гаснет Солнце.
– Доченька…
Я не ответила. Я не могла. Слова были слишком тяжёлыми. Всё, что было, – это усталость. Слишком много боли, чтобы плакать. Слишком много одиночества, чтобы просить тепла. Но я всё ещё стояла. И она обняла меня.
Тихо. Не спрашивая. Не осуждая. Просто обняла. И начала покачивать – так, как в детстве. Как будто я всё ещё та малышка, которая не могла уснуть без колыбельной.
Её руки дрожали. В её волосах – солёный запах слёз. Она гладила меня по спине, как раньше, и шептала не слова, а прощения, и мольбы, и сожаления.
Что не увидела. Что не спасла. Что не была рядом.
Но было поздно.
Она убаюкивала не меня – а свою вину. Своё горе. Свой страх. Я не чувствовала сна. Я чувствовала её – отчаянную, сломанную, готовую отдать всё, чтобы повернуть время вспять. Но время не поворачивалось.
Я закрыла глаза. Не чтобы уснуть – чтобы забыть.
И встретила Денница свою дочь с распростёртыми объятиями, но в её глазах была не радость, а лишь глубокая тоска, как тень от неведомой утраты. Даница вернулась, но вернулась не целая, не такая, какой она была прежде. В её теле не было жизни, а в душе – разочарование и усталость, которая затмевала всё. Даница не улыбнулась, не сказала ни слова. Она просто прижалась к матери, и холод её тела прошёл через Денницу, как ледяной ветер. Она не плакала, ибо слёзы давно высохли, а сердце её было так тяжело, что почти не билось.
Денница прижала голову дочери к своей груди, и, чувствуя этот холод, её сердце сжалось. Всё, что могла она сделать – это провести пальцами по чёрным волосам дочери, пытаясь вернуть в них хоть крошечку тепла. Она почувствовала её боль, которую не могла ни забрать, ни залечить. Она шептала:
– Доченька моя… ты вернулась… Ты дома… Всё будет хорошо…
Но Даница лишь тихо вздохнула, и этот вздох был как взрыв, разорвавший весь её мир. Денница увидела её глаза, и в них не было ни света, ни тепла. Это были глаза, которые видели слишком много, и теперь не могли поверить в то, что они снова видят дом, видят мать. Всё, что она могла сделать – это молчать, удерживая её в своих руках, как самое ценное, что у неё было, и при этом чувствовать, что она не может спасти её, не может вернуть ту, что когда-то была её светом.
– Я так устала… – прошептала Даница, и это было всё, что она могла сказать. Её слова не несли ни жалобы, ни просьбы. Они просто были признанием того, что она не могла больше бороться.
Денница ничего не ответила, потому что не было слов, которые могли бы утешить или облегчить боль. Её душа была переполнена виной. «Как я могла не увидеть, как я могла не спасти тебя?» – молила она в своём сердце. Но теперь уже не было пути назад. Всё, что оставалось – это провести дочь в её последний Путь.
Даница побрела к своей колыбели. Мать, не отрываясь, следила за ней, но не могла помочь, не могла остановить её. Колыбель, та, в которой она когда-то спала, была пуста, но теперь она стала её последним пристанищем. Легла она в неё, скривив лицо от усталости, и прижала колени к груди, как в том далёком детстве, когда не было боли и не было утрат.
Села рядом Денница, не зная, что делать. Она смотрела на свою дочь, и в её глазах не было ни страха, ни гнева. Только бесконечная печаль и сожаление. Она обняла Даницу, наклонилась к ней и, едва слышно, затянула колыбельную:
– Засыпай моё Дитя.
Больше никогда не заболит твоя душа.
Больше не будет тебе одиноко.
Тоски холодная рука никогда не коснётся тебя.
Горечь потери безвкусною станет,
Когда навсегда ты закроешь глаза.
Во Тьме найдёт покой твоя душа,
Ведь ты не проснёшься уже никогда.
Наступают Последние Сумерки;
Солнце становится чёрным;
Гаснут ясные звёзды;
Дуют холодные ветры;
Бушуют моря;
Пылает земля;
Багровеет луна;
Плачет небо;
Молнии слепят;
Оглушает гроза;
Навсегда засыпает Дитя;
Соткан узор;
Надорвалась нить жизни;
Узлами спутана пряжа;
Слишком поздно её расплетать;
Нить оборвётся;
Дитя не проснётся;
Спи крепко, Дитя, скоро Рассвет;
Вечность уже распахнула объятья;
Следуй за Тьмой;
Не бойся, я рядом,
Я буду с тобой до конца;
Растворилась Дитя в Забвении;
Навсегда упокоилась душа.
В этой колыбельной не было утешения, только безмолвное принятие, будто сама Тьма уже пришла, обняла и забрала. Но мать всё продолжала петь, убаюкивая, пока не почувствовала, как холод, исходивший от дочери, начал заполнять её сердце.
Денница держала Даницу в своих руках, ощущая, как плоть её становится тяжёлой, а тело постепенно теряет всякое тепло. Оставалось только ждать, пока всё не закончится. И, в конце концов, тело Даницы обмякло, её губы застыли в едва заметной полуулыбке. Душа её рассыпалась хронами, и больше не было боли.
Денница сидела неподвижно у колыбели, взгляд её был пустым, как сама ночь, и сердце – как тяжёлая, бездушная пустота. Внутри неё было столько сожалений, раздиравших её изнутри, но не было уже никого, кто мог бы облегчить эту боль. Она терзала себя вопросами, которые больше не имели ответов. «Почему я не заметила, почему не спасла?» – мысли эти, как острые камни, поднимались и опускались в её душе, мучая её, но Денница знала, что нет слов, которыми можно было бы вернуть то, что ушло. Её руки были пусты, и внутри пустота была такой глубокой, что казалось, она в ней сгинет. Она потеряла свою дочь. И, возможно, она потеряла себя в том же моменте, когда позволила этому случиться. Горечь утраты была не просто болезнью – она проникла в каждую клеточку её существа, разрывая её на части. Но самой страшной была тишина. Тишина, которая не только заполонила всё вокруг, но и заполнила её душу. Теперь она оставалась одна, и всё, что могла делать – это сидеть в этом безвременье, ощущая, как холодное дыхание пустоты всё больше и больше затягивает её в свою Бездну.
Кажется, всё это было сном – сном, из которого нужно было вырваться, проснуться, но не было уже той, кто могла бы её разбудить. Всё было слишком настоящим, слишком жестоким, чтобы быть просто иллюзией. В её памяти ещё жила картина маленькой дочери, которая, как раньше, своими тёплыми и нежными касаниями будила её в холодные утренние часы. Дочка смеялась, её смех был как музыка, беззаботный и звонкий, а Денница брала её на руки, ощущая, как Дитя уютно прячется в её объятиях. Руки, что обнимали, казались такими знакомыми, такими родными, а тёплый взгляд – таким безопасным. Казалось, она могла бы обнять её за шею, коснуться рогов, прижать к щеке, и навсегда забыть о боли, что терзала её сердце. Но этого больше не было. И не будет. Словно за горизонтом, где когда-то была её дочь, теперь лишь пустота. Боль оставалась, но память об этих нежных прикосновениях была единственным, что Денница могла удержать в своей душе, в исчезающей памяти.
15
Во власти сна
Мне снилось, что я умерла.
Не та смерть, где отпускает. А та, где не отпускают.
Я бродила по пустому чертогу, скрипевшему от тяжести собственной памяти. Каждая стена дышала упрёком, каждая занавеска шевелилась так, как будто знала, кто я. Но я – не знала.
Я видела себя со стороны. Маленькая, испуганная девочка. Слишком знакомая. Слишком хрупкая. Слишком доверчивая… Та, в которой что-то надломилось, но никто не заметил.
Та, которую потом зарыли глубже, чем можно было представить.
Мать звала меня – голосом, который я сама себе придумала. Он был искажён тоской, пропитан страхом, но всё ещё тёплый. Обманчиво тёплый.
Я шла к нему, будто это могло меня спасти. Будто вообще было спасение.
На полу что-то чернело, растекалось. Чернила? Кровь? Нет. Пепел. От меня.
Я шла, оставляя за собой следы, как будто это могло доказать, что я существую.
Я – дочь. Я – мать. Я – пепел между ними.
И я устала.
Тело моё просилось обратно в землю, в холод, в тишину. Но разум стонал: «нет», «ещё не всё», «давай».
Я не знала, кто из нас прав. Кто из нас жив.
Может, никто.
Я проснулась, как от пытки.
Не с криком – с рыком. Горло саднило так, будто я глотала угли.
Грудь судорожно выгнулась вверх, будто кто-то пытался выдрать душу через рёбра.
Тело горело. Каждая клетка вспыхивала, как будто пламя из сна решило просочиться в явь и доесть меня дотла.
Я хватала воздух – рвано, с жадностью утопленника. Он был густым, вонял пеплом и страхом.
Лежанка подо мной – мокрая. В поту или крови – неважно. Разницы уже не было.
Всё слилось. Я не знала, где я, кто я, когда…
Мир вокруг дышал, как зверь. И я, сжав зубы, слушала, не двигаясь. Подозревая даже тени.
– Это всего лишь сон, – сказала я себе.
Но голос внутри ответил:
– Это было предупреждение.
Я встала.
Хрупкая, истощённая, полуголая – как смерть, забытая на обочине мира.
Шрамы на теле болели, как ожоги. Особенно тот – на плече, на его внутренней стороне, где кожа – тонкая и нежная. Метка Хранительницы – невидимой силы, защищающей Даницу от её же воспоминаний, которые могут разрушить её, сломать. Она не подпускает Даницу к воспоминаниям, которые уничтожат её, и сохраняет их за барьером. Этот барьер, как незримая преграда, скрывает болезненные моменты прошлого, превращая их в туман, который не позволяет воспоминаниям обрести чёткость. Всё, что остаётся от этих воспоминаний – это лишь размытые образы и неясные чувства, которые больше не причинят ей боль.
Хранительница не может позволить Данице узнать о своём существовании, потому что это приведёт к разрушению. Разворошённая могила воспоминаний не будет пустовать: край, по которому ходит Даница, осыпется и погребёт её воспоминаниями, смешавшимися с сырой землёй и копошащимися в ней червями.
Я не помню, как она появилась. И не помню, зачем.
Как и многое другое. Воспоминания всплывали, как жир на холодном бульоне – мерзко, и тут же исчезали.
Я – нечто большее. Я – нечто, внушающее страх.
И чем сильнее я это понимала, тем сильнее хотела разрушить всё, чего могла коснуться.
Но не сегодня.
Сегодня я просто хотела тишины. Или смерти.
Что бы из них ни пришло первым.
…они шли за мной. Без лиц. Без глаз. Только рот до ушей и пальцы с когтями. Шли по стенам, по небу, по мне.
Я бежала, и земля хрустела под ногами – не снег, а кости. Мои. Чужие. Неважно. Всё здесь было мной.
Плоть тянулась за мной, как змея, не желая отпускать. Нити мышц, жил, артерий – цеплялись за острые камни, а я тянула их волоком, оставляя за собой кровавый след.
Мозг пульсировал отдельно, как сердце, бьющееся в горле. И каждый удар стучал:
вспомни
вспомни
вспомни
Крики – изнутри. Из глаз. Из живота. Изо рта, что больше не мой.
Я рвала ногтями воздух, чтобы выбраться, но воздух был вязкий, как смола. Он смеялся.
«Ты не выйдешь. Ты никогда не выходила. Ты – здесь. Ты – здесь. Ты – ЗДЕСЬ.»
Мир вспыхнул чернотой.
Небо сложилось, как сгоревший лист.
Земля под ногами провалилась, будто в ней закончились слои бытия.
Внутри хрустнуло – и не от боли, а от узнавания.
Я помню. Я всё вспомнила…
И в эту секунду всё во мне – плоть, кости, голос, тени – рассыпалось на хроны.
Как пепел от выдоха.
Как проклятие, брошенное в пустоту.
16
Неупокоенные
Хроны собрались в едином порыве, не в силах больше терпеть. Каждая из них была частью того, что когда-то было Даницей, её мучением и болью. Разрушенная, она распалась на множество частиц, на мельчайшие фрагменты своей души, но они не могли найти покоя. Это было больше, чем просто созидание – это был ответ на невыносимую тяжесть, которая стала их внутренней сущностью.
Судьба Даницы была запечатана. Она должна была пройти свой Путь, и только так хроны могли обрести тишину. Не было другого выхода. Воскрешение было единственным способом вернуть им целостность. Возродить её, даже если это означало бы столкновение с тем, что было утрачено навсегда. Хроны знали, что она должна пройти через это, чтобы стать той, кем должна была стать.
В том моменте, когда они воссоединились, всё вокруг стало ещё темнее. Бездна, которая направляла хроны, не щадила ни их, ни её. Она отдала этот приказ, зная, что единственный способ вернуть баланс – это позволить Данице вновь жить. Но это не было милосердием. Это было разрушением. Рождение нового начала в теле старого конца.
Тело Даницы ожило. Открыв глаза, она не поняла, где находится. Её мир был полон пустоты, не было ни света, ни звука. Всё, что она чувствовала, было лишь тяжестью в груди и воспоминаниями, смутными и противоречивыми. Она хотела встать, но тело её не слушалось. Что-то держало её. И это что-то было внутри неё самой.
Она вскрикнула, ощущая, как старые раны вскрываются вновь. Слёзы, безвольно катившиеся по щекам, не приносили облегчения. Боль была чуждой, и в то же время знакомой, как тяжёлый камень, который она несла всё это время. Когда же всё кончится?
Я проснулась, потому что мне приснилось, что я живая.
Всё вокруг – чужая реальность. Каждое движение тела заставляет меня кричать в бессильной панике. Я не могу понять, что происходит, и даже не знаю, что я чувствую. Я всё ещё во сне. Или… нет, я же проснулась. Почему тогда так страшно? Почему всё не так, как должно быть? Мои руки, мои ноги – мои? Я не могу их контролировать, они не мои. Голова болит так, словно её размозжили и наспех собрали обратно.