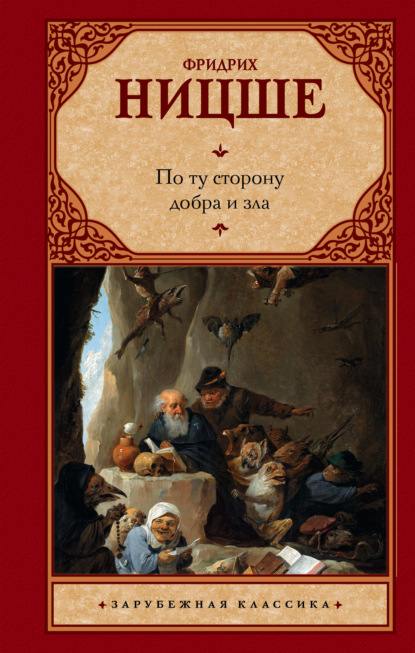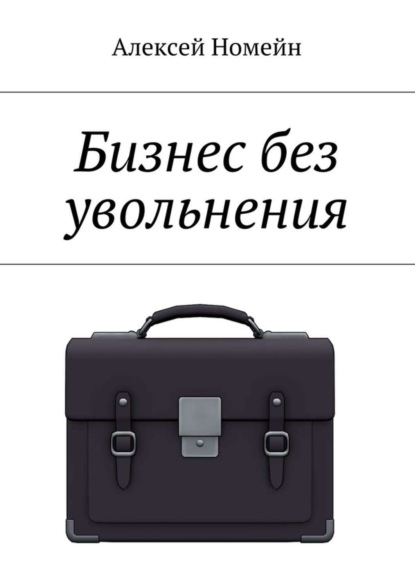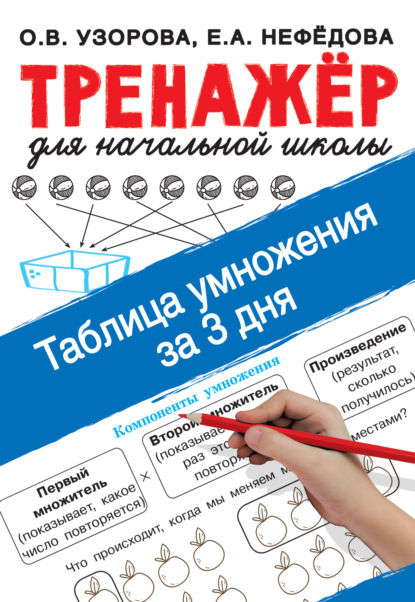Ныне и присно
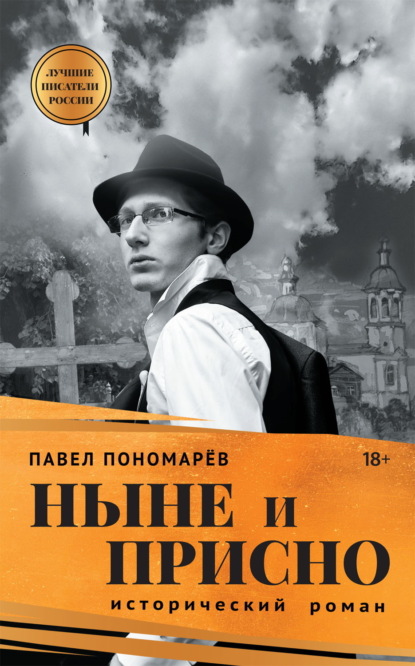
- -
- 100%
- +
Они сели.
Но уже через пару вёрст баба́ спрыгнула, откланялась и сняла Трофима – вялого и распаренного – с телеги на землю.
– Почему не поехали дальше? – спросил Трофим. – Он же хороший!
– Много ходить – сто лет жить. Я очень верю в эту пословицу. Тебе, чтобы сильным стать, ходьбы не хватает. Больные и слабые сами идут, идут и выздоравливают – коли до места дошли на своих ногах.
– До какого места?
– Твоё место – это дом. Пойдём.
Глава вторая
– Проходите, товарищ мой, сюда – тут светло, у окна сядем. Тут надо с ранья сидеть. Сейчас уже припекает, а часиков в семь-восемь – самое то. Я в это время кроссворды гадаю – за этим столом. Может, вам чаю? Или чего покрепче? Я сам вино уже два года не пью. Но ещё делаю – для сына, маму его грубым образом… – Трофим Иванович понял, что говорит не то и не тому. – Извините.
– А где же ваша супруга? Я вот ей… – краевед протянул Трофиму Ивановичу тюльпаны.
– Да? А я думал, это вы мне – по случаю праздника! – Трофим ощерился, прищурился одним глазом. Это не специально, нет: у него всегда, когда он улыбался, один глаз почему-то прикрывался больше, чем другой, и даже как будто косил. Это тоже только казалось – на самом деле зрение на этом глазу было острее и в моменты улыбки рассеивалось вдали – впереди, в пространстве. Оттого улыбающееся лицо казалось болезненно-напряжённым. Это у них семейное. Так улыбаются его сыновья – старший Генка, шофёр, и младший Ванька – безработный.
– Ой, ради бога извините, – краевед как будто растерялся, – так ведь праздник-то только завтра. Я как раз думал вам завтра набрать, чтобы день в день…
– Пустое… – махнул рукой Трофим. – Звонить мне и так завтра будут весь день. Я от этих звонков устаю. Вы уж простите. А цветов у нас и своих полно – вы, когда проходили, не заметили?
Да, он, конечно, со своим всегда повышенным вниманием в новой обстановке, видел, как такие же тюльпаны горят в палисаднике перед домом. И поэтому стал было соглашаться – видел мол, видел, конечно; но старик не дал ему договорить:
– Вот жена их и продаёт – на рынке. Работа у неё такая – на пенсии. Так что я вас сегодня один принимаю. Она и не знает, что вы придёте. Ну так что, выпьете?
– Нет-нет, увольте – я не пью.
– Вот и я. Теперь. Здоровьем похвастаться не могу – война его крепко нарушила… Да и годы-то уж!.. Представьте человека в восемьдесят восемь лет… Похож на меня?
Краевед изучающе посмотрел на деда, который не стал дожидаться и ответил сам:
– Сложно – конечно, вы ещё о таком возрасте не думали… Это мне, мой милый, восемьдесят восемь. Будет… Через полторы недели, дай бог… Ну, а чай?
Краевед помахал головой:
– Давайте мы уже пройдём.
Трофим как будто опомнился. Всё это время он стоял в дверном проёме между столовой и большой комнатой, которую называл «залой» (именно в женском роде), опершись на свою трость, без которой уже не мог. Медленно развернул не поддававшееся ему тело и молча, но уже быстрее прошёл через «залу» к деревянному круглому столу, стоявшему между двумя небольшими окнами, типичными для уездных домиков начала века. В окна заглядывал позднеутренний свет.
Этот стол Трофим сделал сам, но подумал, что и об этом сейчас говорить не стоит – нескромно, да и человеку с улицы лишняя, бессмысленная информация ни к чему.
До стола оставалось дойти полметра; Трофим вытянул вперёд руку (второй по-прежнему опираясь на трость), чтобы скорей костеневшей ладонью зацепить столешницу: всё время теперь он опасался, что станет падать, а удержаться окажется не за что.
Сила тяжести притягивала его на венский стул, стоявший возле стола у окна; второй деревянный «австриец» – со вполне себе подмосковными фабричными корнями – стоял напротив, и было понятно, что оба – из одного гарнитура, кажется – ещё дореволюционного.
– Да, это из приданного тётки, – догадавшись по глазам краеведа, предварил его вопрос Трофим. Он почему-то совсем не хотел сейчас, чтобы краевед садился на этот стул, но из вежливости должен был предложить ему… И – не успел: краевед, сев без приглашения, отодвинулся от стола, скрестив под стулом длинные и худые ноги, на которые положил свой портфель.
– Как её звали? – краевед впялился взглядом в деда: вишнёвые глаза незнакомца, вдвое младше старика, блестели, как будто он всё-таки выпил предложенного ему вина; кончики губ растягивались по щекам, и вся челюсть вытягивалась и вниз, и вширь, очерчивая щетинистый треугольник. Лоб, и так не высокий, казался приплюснутым из-за короткой стрижки, похожей на восковой парик, – такой, как теперь у Кобзона.
Краевед надел очки-лупы, достав их из портфеля, – морщины-дуги на лбу от поднявшихся вверх бровей заплыли за чёлку, кончики ушей дёрнулись. Трофиму показалось, что перед ним сидит гиббон. Кого-то это лицо напомнило…
– Тётя Паша, – промямлил на вопрос гиббона Трофим. И тут же, как загипнотизированный, поправил себя, – в смысле Киселёва Прасковья Алексеевна… Урождённая Сулаева. Это тётка по матери – её сестра. Она, собственно, к отцу никакого отношения…
– Его расстреляли? – перебил краевед.
– Отца?
– Ага – он же у вас священником был?
– Ну да, – смутился Трофим; он ещё не привык, что на этот вопрос можно теперь отвечать честно.
– А фотографии какие-нибудь остались? – продолжал краевед.
– Чьи?
– Ну, может, отца…
– Что-то, конечно…
– Может, покажете? Я знаю, он в этой церкви служил, – рука краеведа скользнула вверх, ладонь замерла в ближнем к нему окне, – которой теперь нет.
– Да, он был её настоятелем… последним, – голос Трофима, и без того теперь слабый, стал пропадать. Об отце он мало с кем мог говорить. Теперь, когда говорить было можно, Трофим говорить уже не мог: жене он не доверял, внучкам это было не нужно, а сыновья… Сыновья не поймут его.
– Вы… Расскажите о себе, – попросил Трофим.
– Я окончил воронежский истфак. Потом переехал в Липецк. У вас здесь – в командировке. Занимаюсь историей церкви.
– Нашей?
– И вашей тоже. У меня дед отсюда.
Трофим почувствовал, как проникается к нему:
– Вы знаете, у нас был обыск, когда отца пришли арестовывать. И его альбом забрали. Альбом и переписку. Я тогда здесь не жил, поэтому у меня кое-что сохранилось. Ну, фотокарточки… Мне их присылали отсюда… По почте, – Трофим потянулся за тростью, упёрся ладонью в столешницу, чтобы, оттолкнувшись от неё, подняться со стула, но осёкся.
– Сидите, я принесу!
Трофима насторожила стремительность его гостя, но тот посмотрел на деда так, будто дед ему был родным. Брезгливость куда-то пропала – Трофиму этот человек не казался больше уродливым.
Трофим ничего отвечать не стал, а просто указал рукой на соседнюю комнату, в которую телепортировался его гость. Он так уверенно подошёл к комоду, где лежали альбомы, определив сразу нужный ящик, как будто был здесь не первый раз, как будто всё в этом доме было ему знакомым… Трофим лишь сориентировал его, какой именно альбом нужно взять.
–…Это я на станции Дормидонтовка – тридцать… ммм… пятый, кажется, год… Это дядь Вася, дядь Федя и дядь Петя – тридцать шестой. За год, как дядь Федю расстреляли. Единственная их фотография, где они все вместе втроём… Это отец – вон фотокопия над вами.
Гость обернулся – со стены на него смотрело иконописное лицо, сиявшее на фоне осенних листьев. Овал лица очерчивали кудрявые борода и волосы, смешавшиеся с цветом рясы, листьев, переходящие в них… Он улыбался, но взгляд его был мученический. И от этого становилось восторженно и жутко.
– С этой фотографией я ушёл из дома… в пятнадцать лет, – продолжал Трофим. – Здесь мы все вместе: отец, брат, я… и мать. Отца только-только в сан… Как это…
– Рукоположили.
– Да-да.
– А это… Это… Это была отцовская. Я не знаю, почему её не взяли. Тут… Поглядите.
Фотография была большая, на паспарту. На пустом чёрном фоне сидели – в облачении – батюшки: с густыми и редкими волосами; с окладистыми бородами и подстриженными бородками; с крестами и другими церковными – нагрудными и наградными – знаками. Только лицо одного, сидевшего в центре, коротко подстриженного, было гладко выбрито и контрастировало с его протоиерейским облачением. В таком виде он походил на митрополита Александра Введенского – идеолога и лидера советского обновленчества. Даже в лицах их – Введенского и этого человека посередине – было нечто общее – смазливо-снобистское. Только нижняя часть лица сидевшего в центре – лошадиная будто – уродовала эту внешность, над которой явно поработали предыдущие поколения. Рядом с ним, по правую руку, сидел тот, который смотрел теперь со стены – за спиной краеведа.
– Эклектика, – не удержался гость.
– Кто? – не расслышал (или не распонял) Трофим.
– Экклезиаст, – улыбнулся гость. – Вы их всех знаете?
– Виноградов Михаил Лукич – настоятель Старого собора… Мещерский Василий Иванович – тоже… Полётов Пётр Николаевич – диакон… – Трофим водил пальцем по фотографии, словно по азбуке Брайля, останавливаясь на каждом лице. – А это – отец.
– А это? – краевед показал на сидящего в центре.
– Это Климонтов. Филипп… Господи, как его… Отчество ещё такое… Он в Кладбищенской церкви служил. Дом его – вон там, за нашим, через дорогу, – Трофим показал на окно, выворачивая ладонь – мол, завернёшь за переулок, и там, через дорогу будет его дом.
– Они все общались?
– Общались!.. – старик усмехнулся. – Они все по одному делу проходили! На четверых пошили… Полётову – червонец, а остальных – к стеночке.
– На четверых? Их же тут пять.
– Вы ведь не дослушали меня, молодой человек… Извините, как вас? Вы простите… Я после инсульта; у меня бывает…
– Николай.
– А-а?.. – Трофим замолчал и вопросительно посмотрел. Гость понял и ответил:
– Годяев.
–…Климонтова взяли на будущий год. Четвертак с конфискацией. Как не вышак, один Бог со Сталиным знают, – руками развёл Трофим.
– Вы знаете, что с ним стало?
– Хе, что с ним стало… – второй раз усмехнулся дед. – По бериевской амнистии вышел! Только бы лучше не выходил. Четыре года у нас тут прожил – а потом его трактором… То ли помогли, то ли сам себе… помог. Участковый расследование вёл. Только ему докрутить не дали – сказали, не твоего ума дело. И оформили всё как несчастный случай – дескать, он пьяный был, на морозе заснул, и шофёр его впотьмах не приметил – по снежку-то. А снега в ту ночь не было – не было, милый мой человек!..
– У него кто остался?
– У него никого не было. От семьи он отрёкся.
– Чтобы не тронули?
– Кого не тронули – его или их? – Трофим рассмеялся.
– Тогда ведь многие порывали специально – чтобы сберечься. Вроде того, что не имеют друг к другу никакого отношения и ничего друг о друге не знают.
– Он от своих отрёкся, потому что ему так проще было: никто ему был не нужен.
Трофиму не показалось – он заметил, как на мгновение краевед изменился в лице. Что-то внутри него дёрнулось.
– А дом?
– Отобрали же, говорю… Он после откидки на Набережной жил – в сторожке на водокачке. Водовозом работал.
– А кто в его доме теперь?
– Кореневы… И иногда отец Ермолай приезжает. Он у нас тут, в Кладбищенской церкви, служит. Его недавно поставили. А так он сам с Красноярского края…
– Так что же он, всё время здесь не живёт?
– Он навроде того, что странник – по стране ездит.
– Хм… Зачем?
– Церковь восстанавливает.
– Побирается, что ли?
– Ну, это я не знаю – не моё дело. Вы сами у него спросите – если застанете. А то он опять уезжать собирался…
– А почему он останавливается у этих… Как вы назвали?
– Кореневы? Ему, по чести сказать, у кого жить, это дело третье. Он из-за дома.
– А что дом?
– Ну посудите – кто в этом доме до него жил?
Краевед пару секунд раздумывал, пока Трофим не застучал медленно пальцами по фото – по лицу Климонтова.
– Отец Ермолай… Отец Филипп… – краевед, кажется, уловил, но старик перебил ход его – и своих – мыслей:
– Он такой же отец, как я мать. До революции таких называли «распоп». Священник, с которого сняли сан. Только с Филиппа никто не снимал – он сам сложил.
– А так можно?
– Тогда всё было можно…
– Но здесь, – краевед показал на фото, – он ведь ещё в сане? Если в облачении. Хотя без бороды… Почему, кстати?
– А вы не догадываетесь? Вы же историк.
– Он что, из обновленцев?
– Красный поп, – подтвердил Трофим. – Или живоцерковник. Как вам больше нравится.
– Мне, если честно, никак не нравится – это ведь пособничество советской власти было…
– А если по-другому – оппозиция?
– Кому? Своему народу?
– Церкви! Которая этот народ в нищих превратила!
– В нищих народ превратила власть.
– Вы не любите советскую власть? Ну да, сейчас это модно стало… А мне вот она дала пенсию, хлеб… А новые всё просрали! Мне лекарства нужны, а их нет!
– Эта власть у вас отца забрала. Или он тоже – «оппозиция»?
– Вам это не понять, товарищ Годяев – вы тогда не жили. Отец был неприкаянная душа! При жизни покоя не нашёл – и после смерти покоя нет? Чего вы всё это ворошить начали? Зря я вам… – Трофим, опустив голову, посмотрел на свои трясущиеся пальцы, лежавшие на лице Климонтова, и вдруг замер. Пальцы остановились, прикрывая нижнюю часть лица Климонтова. Трофим ужаснулся – на него смотрели глаза «старца» Ермолая. Старик, никогда его не видевший без бороды (отец Ермолай был из чёрного духовенства; имя, которое он носил до пострига, оставалось для Трофима загадкой), нарисовал в голове его выбритое лицо. Дикость охватила Трофима Ивановича. Он не верил в переселение душ, но доверял своей навязчивой интуиции. Особенно, когда ей вторит ещё одна упрямая вещь – логика. Страшные догадки, на которые его навёл разговор с «каменным гостем», зароились в перетянутой спазмами голове Трофима Ивановича.
Он убрал пальцы с лица Климонтова – открылась уродливая челюсть. И вторая доза дикого ужаса, укреплённая домыслом, медленно, но комплексно растворилась в крови Трофима. Он почувствовал, как приступ к нему подступает – он уже знал его в лицо. И, подняв голову, встретился с ним глазами:
– Как звали вашего деда?
Вишнёвые зрачки краеведа стали черешневыми, словно ему на глаза наложили по медяку, как покойнику. Блеск в них пропал.
Несколько секунд эти чужие, но, кажется, понявшие друг про друга всё и даже больше – то, чего знать им не полагалось и то, после чего жизнь их теперь не будет прежней, – люди смотрели друг на друга. Пока один из них не стал медленно поворачивать голову в сторону окна, боковым зрением замечая движение. Женская фигура – без форм и без возраста – приближалась к дому, исчезая за границей окна.
Затявкал щенок, встретивший краеведа во дворе старика и показавшийся трусливым и очень глупым. Хлопнула дверь ворот.
– Иу-ди-но-вич, – бубнил Трофим, – он был… Иу-ди-на…
Правой стороной Трофим медленно сползал по столу со стула, пытаясь удержаться левой. Трость его лежала теперь на полу.
Краевед схватил со стола альбом, вытянул из-под руки Трофима, которой тот держался за стол, фотографию пятерых и на ходу стал опускать в портфель, который всё это время держал на коленях.
Аля схватилась одной рукой за опору, которая держала навес, второй покрепче перехватила пустое от цветов ведро и уже было закинула ногу на порог, теперь казавшийся ей раздражительно высоким, но дверь сама перед ней отворилась, и с порога слетел незнакомец, застёгивавший портфель. Резко её обогнул, отворачиваясь, и Аля, подумав, что это вор, занесла ведро, но огреть так и не смогла – отпихнув заходившегося в истерике щенка на цепи, лязгающей по залитому бетоном двору, «вор» втиснулся в калитку и пропал за деревянными воротами, закрывавшими улицу.
Аля бросила ведро и, сшибая задом углы, протиснувшись в тесноту дома, ввалилась в зал.
Возле стола лежали стулья, трость и Трофим.
Глава третья
1Трофим Иванович открыл глаза. Из темноты пробился свет. Это горела над ним свеча в руках у Али. Рядом стояли два мужика – его с Алей сыновья, Генка и Ванька, от которых пахло машинным маслом и водкой.
– Ты на рынок завтра не ходи, – расслышал Трофим. Он узнал голос – Генкин, раскатистый, стремящийся вверх, но оттуда, сверху, прижимаемый.
– Завтра ж самый торг, – отвечала мать, – девятое ведь… Робята тюльпанчики ждать будут…
– Ну ты посмотрела? Украли чего? – второй голос – Ванькин – был ниже и чуть гундосил. Не от насморка будто, а от курева.
– Тьфу-тьфу, помилуй Бог! – бабка Аля постучала по лбу. – Все загашники проверила – всё на месте. Не успел он, что ли, ничего свиснуть – я ему тут, как на грех, карты спутала…
– Батя как всегда, – цедил папироску Ванька, – лоханулся, всякую шваль домой тащит…
– Вот ты и пришёл, – огрызнулся Генка, – уйди с глаз долой, а! Кури во дворе – покойник, твою мать, в доме, а ты!..
– Ну подожди ещё, чего городишь – типун тебе на язык, – пролепетала Аля, – он же ещё живой!
Генка молча махнул рукой: что живой, что покойник – уже без разницы. Теперь – только дело времени.
– Оба вы помолчите, – потушил папироску Ванька, – может, он слышит нас.
Трофим их слышал, но ответить уже не мог.
Похоже на госпиталь – как тогда, в марте сорок четвёртого. Знать бы тогда, что через полвека всё повторится – может, легче было бы? Не по жизни, нет – на жизнь грех жаловаться. Всё, что есть – пенсия, машина, телефон – всё дала советская власть (только самой её теперь нет). А легче – про сейчас. Если бы знал, что старость такая стерва… А всё равно интересно – даже сейчас, когда уже под себя ходить начал.
…Совсем плохим стал этой весной. Весна пришла – можно помирать.
Нет, умирать не хочется. Сейчас – совсем не хочется.
Только всё равно дело к этому пришло.
Понимать начал в прошлом году, после инсульта. Второго – первый был в позапрошлом году. А третий, сказали ему, будет последним.
Но всё ничего – обошлось. Только ноги стали подводить. Помнится, сколько ходил, вся жизнь так прошла – на ногах.
В пятнадцать лет по шпалам, в одной рубашке и брюках, сбежал из дома. От матери-самодурки, от безвольного, мягкотелого отца.
Так и бежал, пока на станции Лутошкино не поймал товарняк.
А тот – обратно.
Но обратно было уже невмоготу – невмочь. Промахнул мимо родного города, родительский дом остался в стороне.
Так началась его «совдеповская Одиссея»: сначала город Козлов, потом станция Лиски, потом – Дальний Восток.
Всё дальше и дальше бежал: сначала – от «репрессий» матери, потом – от репрессированного отца.
Обратно возвращался с зимы сорок второго – с маршевой ротой. С ней от Амура до Селигера прошёл.
А когда после войны стал работать на родном литмехе – старшим электриком литейно-механического завода, – то от дома до проходной каждый день отмахивал по десять километров (туда и обратно, если всё вместе считать).
По походке его и запоминали: шаг не длинный, но частый, на полусогнутых, руки с отмашкой, ладони – в кулаки (фронтовая привычка). Движения отрывистые, как будто на нервах слегка.
Так поначалу и было – когда первые годы после контузии сосредоточенно контролировал каждое своё движение: чтобы дрожь по телу была не заметна, чтобы заикание снова где не проскочило во время разговора.
Год-другой – дрожь прошла. Заикание забылось. А сосредоточенность так и осталась.
А умирать вроде бы не страшно – или страшно, но сил на страх уже нет. Вот что абсолютно точно: умирать не стыдно. Дома ведь, у себя… И не в первый раз.
А если не умирать? Для всех – овощем, для своих – ещё хуже. Сами тебе будут смерти желать. Грех как-никак, и жалко их, жалко!
Смотрит на сыновей, и хочется им сказать, что опять видел во сне отца – деда их. Они ведь не знают, что прах его здесь присыпан – на городском Старом кладбище, в месте, где растёт Вечноцветущее дерево. Это он, Трофим, ездил тогда в Воронеж, в Дубовку, на братскую могилу безвинно порешённых – в том числе и отца – и привёз с могилы горсть той земли: кажется, такой же чернозём, только оттенка красного. И присыпал его на Старом кладбище – где это дерево, из этой земли, срастившей корнями тела двух отцов – двух «братьев». Потому что ещё тридцатью пятью годами ранее он – Трофим – и двое алкашей под пистолетом следователя закопали здесь перемолотое тело Филиппа-водовоза – бывшего лагерника и священника. Почему в могильщики попал тогда он, Трофим? Потому что нужное место на кладбище знал – и потому что будет молчать.
Так сорок лет и промолчал. Даже детям не смог сказать. А смог – одному лишь отцу Ермолаю, которого местные почитали за старца и который сам стал выспрашивать у Трофима про водовоза Филиппа. (Теперь понятно, почему выспрашивал – ему, Трофиму, понятно; а другим…)
Всё это теперь – дела давно минувших дней. Лет. Десятилетий. И быльём поросло – как могила Климонтова, которой, по сути, нет. Нет там даже креста с табличкой, на которой написано было бы, что здесь лежит изувеченное и за давностью лет всосанное червями тело жертвы политического режима Филиппа Климонтова…
Но есть там другая табличка. С именем другой жертвы – Ивана Кручинина. Так – безопаснее. Так – вернее.
Вернее ли?
Трофим уже задавал этот вопрос отцу Ермолаю. Тот ответил:
– Конечно, нет! – отец Ермолай был не опечален даже – рассержен.
– Но так – надёжнее! – оправдывался Трофим. – Место и память не затеряются. Память – хотя бы об одном, но на двоих. А уж ты, отец Ермолай, продолжи – тебе дальше жить, тебе правду искать.
«Тем более что ты её, думается, нашёл», – добавил бы Трофим теперь – теперь, когда приходил этот визитёр.
–…Тебе, отец Ермолай, эту правду передать нужно будет. Считай, что я передал её тебе, а ты должен будешь передать её им.
«Тем, кому я не успел, – добавил бы теперь Трофим. – Теперь, когда можно. Но – уже не можется».
И чтобы не заплакать, Трофим Иванович переводит взгляд с сыновей на часы, висящие на стене, перед ним. Часы – с боем, из того же состава, что и «венские братья» – из приданного тётки, Прасковьи Алексеевны. Тёти Паши. Но пока до ровного счёта остаётся ещё минут двадцать, часы не бьют, а только глухо отбивают минуты своим маятником с вензелем «А» и цифрой «II»: «Тук-тук, тук-тук, тук…»
Да, точно, как в госпитале.
2…Подходил к концу второй месяц, как его подобрали наши разведчики.
Орал не своим голосом, когда их увидел.
Те побежали на голос. Видят – голова торчит, руки… А тело землёй присыпано. По форме – свой. Спрашивают, кто такой, а он башкой вертит и мычит – не слышит ни хрена и сказать ничего не может. Пальцем кровь из ушей колупает и по снегу – пишет, что с ним случилось.
Разведчики откопали, вытащили из него документы, проверили. По документам – Кручинин Трофим Иванович, 1911-го года рождения, гвардии старшина, помощник командира взвода 2-й роты 247-го стрелкового полка… Под руки – и на КП.
Так он оказался в эвакогоспитале № 190 города Бежецка Калининской области.
«Вот и отпелся», – всё думал теперь.
Товарищи подбадривали: «Не ты первый, не ты последний», – писали ему в блокнотик.
«Будешь ещё свою “Torna a Surriento” петь».
«И бабе своей будешь петь».
«Как это так – 33, а бабы ещё нет?».
«Ты же ведь старшина – а у тебя ни детей, ни бабы».
На что Трофим вспоминал (только сказать об этом теперь не мог), как в землянках, когда его взвод уснёт, развешивал сушить портянки своих бойцов – лет на десять моложе его и казавшихся – там, на войне – ему детьми. Которых у него ещё не было.
Ночью, когда в госпитале всё стихнет (хотя и так ничего не слышно, но дневная возня как будто сквозь глухоту прорывается), Трофим повторял про себя тексты любимых песен, с которыми солировал в хоре художественной самодеятельности Владивостокского филиала Харьковского электротехнического института. Тенором – мягким, южнорусским – солировал:
…И колокольчик, дар Валдая,Гудёт уныло под дугой.Ямщик лихой – он встал с полночи,Ему сгрустнулося в тиши —И он запел про ясны очи,Про очи девицы-души:«Вы очи, очи голубые,Вы сокрушили молодца;Зачем, о люди, люди злые,Вы их разрознили сердца?Теперь я горький сиротина!..»И вдруг махнул по всем по трём —На тройку божился детина,Сам заливался соловьём.Эту народную песню (написанную, впрочем, декабристом Фёдором Глинкой – Трофим об этом знал) ему вскоре петь в хоре запретили, потому что менять предпоследнюю строчку на «И песней тешился детина» Трофим отказался – отец его учил петь именно с той строчкой. А когда в институте узнали, что отец ещё и враг народа, то совсем из хора погнали.
Трофим песню петь перестал и только перед сном проговаривал её про себя – как когда-то молитвы, которые в детстве повторял сначала за баба́, а когда выучил – тоже про себя.