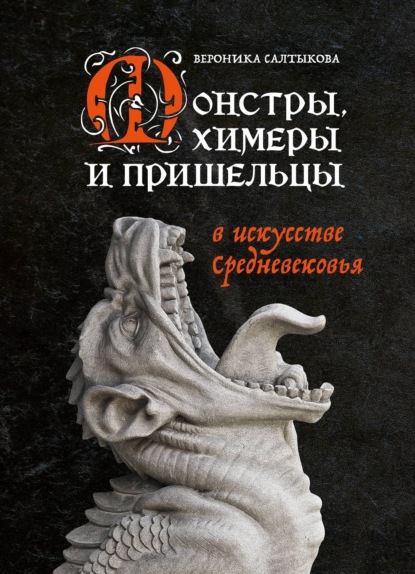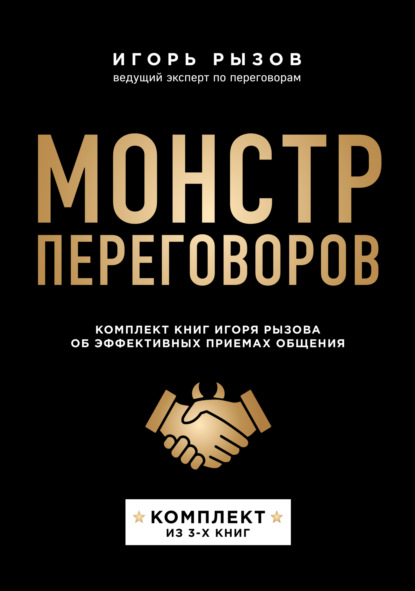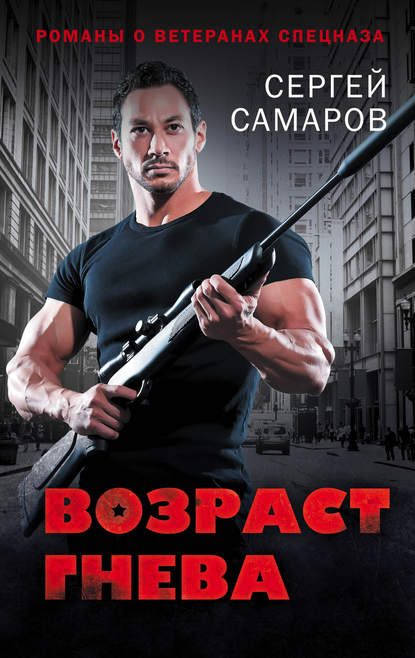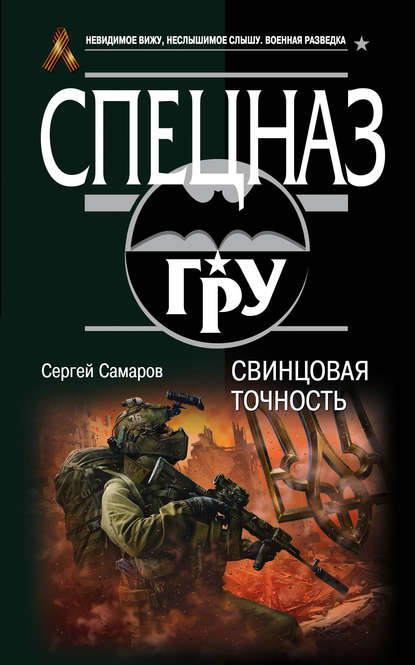Ныне и присно
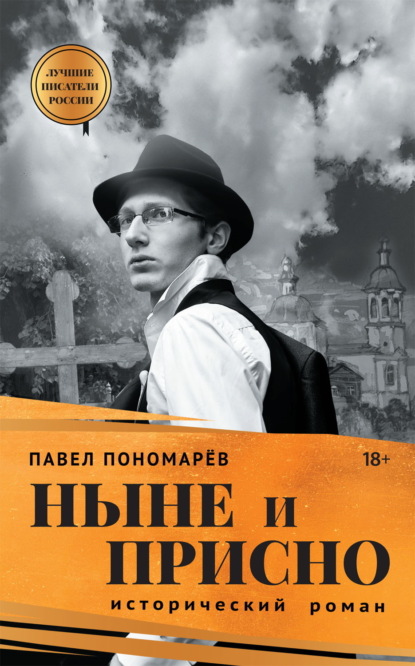
- -
- 100%
- +
Но молитвы он забыл точно, тут и врать не надо было; ни другим, ни – главное – себе.
«Теперь я горький сиротина», – проговаривал про себя Трофим. Дыша животом, перекатывая воздух во рту языком по зубам, прокатывая этот воздух по нёбу… Но не выпуская из себя, смыкая губы, чтобы не получились шёпот, мычание, крик. Чтобы ни единым звуком – чужим как будто – себя не выдать.
«На тройку божился детина…»
– Да заткнёшься ты, твою мать! Лемешев хренов!
Трофим испугался.
– Зачем такой злой, Федя? Зачем как собака?
Второй голос был с восточным акцентом.
– Да в рот пароход, сколько можно? – цедил Федя. – Каждую ночь мычит. Я вторую неделю здесь, сдохнуть можно от его мычания! Лучше б, сука, говорил!
– Он второй месяц здесь, – третий голос не шептал даже, а сипел – это, видимо, был Пётр Гаврилович, раненный осколком в шею и лечившийся уже полгода; дольше него в Бежецком госпитале никого не было. – Врачи говорят, он немым теперь на всю жизнь останется.
Комок подкатил к горлу Трофима. Заорать бы сейчас, но нельзя – все спят. Да и зачем? – всё равно сам себя не услышишь.
– А слышать он будет? – спросил голос с акцентом.
– Тоже нет, скорей всего, – просипел Пётр Гаврилович. – Тут одно от другого зависит. Если одного нет, то и другого не будет.
Повисло молчание.
И только глухой стук: «Тук-тук, тук-тук, тук…»
«А это что? – подумал Трофим. – Неужели всё – спятил от тишины?»
И вдруг по комнате раскатился медный удар. За ним посыпались второй, третий, четвёртый…
Это часы на стене отбивали полночь.
– Я слышу! Я всё слышу!..
Глава четвёртая
1Аля своим подслеповатым зрением, с каждым годом садившимся всё основательнее, в соседней комнате, где стояли комод и книжный шкаф, без света, под одним только подсвечником, оставшимся в доме от Александры Стефановны, бабушки Трофима, разбирала его бумажки, откладывая документы первой необходимости – паспорт, свидетельство о рождении, удостоверение участника войны… Всё, что может теперь понадобиться. Ванька спал в другой комнате, не взяв капли в рот. Генка на венском стуле сидел под часами – напротив лежащего на диване отца со сложенными на груди ладонями, в которые была вставлена свеча. Мать сказала, так по обряду положено – «чтобы отходящей душе было светло идти». Генка в эту «брехню» не верил и согласился вставить в ладони отцу свечу из практических соображений – чтобы понять, когда отец кончится: пока он дышит, а значит живой, огонёк на свече колышется.
Кому теперь эти бумажки понадобятся? Аля откладывала в сторонку то, что подсознательно уже приготовила для костра. Во-первых, это напоминало ей не только Трофимину, но и её, уже прожитую, жизнь; во-вторых, этой памятью Аля ни с кем не хотела делиться: теперь всё, что она помнила или вспоминала подспудно, заглядывая в пожелтелые тетрадочные листочки, машинописные листы, косясь на клочки с печатями, обрывки со штемпелями, было только её. И – не всегда благостное.
Вот свидетельство о расторжении брака Кручинина Трофима Ивановича с Кручининой, до брака Ситниковой, Клавдией Фаддеевной. От 22 апреля 1964 года. И тут же – свидетельство о заключении брака Кручинина Трофима Ивановича с Алфимовой Алевтиной Ивановной. От 23 апреля 1964 года.
Аля прожила с Трофимом девятнадцать лет, прежде чем они расписались. Генка и Ванька родились вне брака. Аля сама ходила в ЗАГС, сама заявляла о рождении своих детей, сама на себя их записывала. Разводиться в стране Советов было не принято. А уж детей иметь на стороне – тем паче.
Только в пятьдесят третьем – после смерти вождя – Трофим взял Алю за ручку, сыновей – в охапку и пошёл в ЗАГС. На этот раз – сам. И оформил усыновление – усыновил своих же сыновей. Его они были, его! Аля тогда до хрипоты доказывала «бракоделам», надирая уши мужу (они говорили «сожителю»), старшему сыну и младшему сыну и показывая, в каком месте эти уши одинаковые:
– Ну вот же, вот, ну что вы, не видите: у него уголок – как будто мишка кусочек откусил; и у них тоже! Только поменьше. Ну ясное дело: он здоровый мужик, а они робята, маленькие ещё. Поэтому и кусочки у них меньше. А так – ну один в один же, ну такой же уголок-то!
С горем пополам поверили. Только их это было дело, а? Кто там был у неё до него (никого у неё не было! Нецелованная она ему досталась); кто до неё у него там был…
А была Клавдия. Только как была?
Когда после войны Трофим приехал домой, тут его настиг орден Красной Звезды – ждал в родительском доме, по адресу матери (который во всех документах армейских указывали, чтобы знать, кому и куда писать похоронку). Когда Трофим попал в госпиталь, а оттуда в Кащенко, связь с ним была потеряна – в части не знали, где его искать. Поэтому начштаба в/ч 32630 подполковник Коваленко написал по этому адресу письмо.
Вот оно – письмо матери. Та всё ждала похоронку, а получила…
Сообщается, что Ваш сын старшина Кручинин Трофим Иванович Приказом по части 32630 № 022-Н от 22 марта 1944 г. за образцовое выполнение задания командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды. Старшина Кручинин Т. И. выбыл из части по ранению 12 марта 1944 г. Награда ему не вручена.
Прошу сообщить адрес нахождения в данный момент Вашего сына для направления ему удостоверения о награждении по адресу: Полевая почта 32630, командиру части.
Вот орденская книжка. Только кроме ордена Трофима в родительском доме вряд ли кто ждал ещё: отца взяли в тридцать седьмом, а мать…
Мать, когда он приехал, очень скоро поняла, что жить в одном доме с сыном уже не сможет. За восемь лет одиночества, казавшиеся ей веком, отвыкла. И стала искать ему девку. И нашла – Клаву Ситникову, бухглатершу из заготконторы. Почему её? А у неё никого не было. Зато собственный дом был. Что матери на руку: иди ты, Трофима, живи туда.
Когда мать это всё рассказала Трофиму, тот, ещё не оправившийся от контузии, только и смог ответить:
– Делай, что хочешь.
А с другой стороны, истосковавшийся по женским теплу и ласке, подумал: мать ухаживать всё равно не будет – может, эта будет? Пёс с ней: какой был она ни была – она баба.
И согласился. Только решил проверить – и их, и себя.
Когда на росписи в ЗАГСе попросили паспорт, Трофим смутился и дал понять, что паспорт он дома забыл.
– Тогда приходите в другой раз, – сказали им.
– Ой, что вы, товарищ заведующая! – запричитала мать. – Нам в другой раз никак нельзя, нам бы сейчас и срочно!
– А что вам такого срочно? Война вроде кончилась.
Глаза матери забегали – она не знала, что бы такое ответить, чтобы поверили. И тогда пробасила Клава:
– На сносях я. Рожать мне скоро.
Заведующая, окинув взором Клаву и так и не поняв за её габаритами, действительно та беременна или ломает комедию, сказала:
– Какие документы у жениха с собой есть?
Трофим протянул армейскую книжку. По ней его с Клавдией и расписали.
2Только жизнь у них не заладилась.
– Я её – ну совсем не это… Не того… Не мог никак – хоть ты тресни, – рассказывал потом Трофим Але.
Он её встретил, когда ему было тридцать четыре – в парикмахерской. К Але ходили «стрычься» все мужики с горсовета – чудо, а не мастер была. Мужики её, видевшую у мужиков – в свои двадцать с лишком – голой только лысину, в шутку звали «дурочка с переулочка». А она обвяжет своими косичками подбородок – вместо платочка – и ей-ей стукнутая.
Трофим как раз тогда только устроился в горкомхоз – городское коммунальное хозяйство. (Отец ему в детстве завещал – на всю жизнь запомнил: «Подари людям свет, сынок!» – вот он и подарил: электриком стал.) И зашёл в парикмахерскую при хозяйстве. Тут его и осветило. Ничего с собой сделать не смог – бывает…
Такие «дурочки» всегда привлекали его своей непосредственностью и диковатой, не доступной простому глазу, красотой, которая, как в тихом омуте, таилась и – затягивала.
И, с высоты своего опыта, Трофим загорался утопической мечтой дотягивать этих «красавиц» до себя.
И наконец, в этот раз, оказавшийся для него последним, мечта сбылась. Из утопической превратившись вдруг, неожиданно для него самого (он уже давно смирился с её несбыточностью, понимая весь идеализм и идиотизм ситуации), во вполне реальную.
До Али у Трофима была М. – Машенька.
Между ними – Алей и Машенькой – была Клавдия, которая была как бы.
Машенька… М. Тьфу на неё!.. Але казалось, что эту М. она забывала всю жизнь – забывала больше, чем это делал сам Трофим. Седьмой десяток доживает, а как деви́ца – не может свыкнуться с тем, что муж до неё был с кем-то (Клавдия – не в счёт).
Вот и теперь об М. напомнила эта буква – посвящение после трёх звёздочек. Юношеские стихи – стишки. По ней – так совсем стишочки. Ей он стихов никогда не писал, и тот аргумент, что после войны он стихов в принципе не писал – только фельетоны в стихах (он называл их «сатира»), но какие это стихи?.. – её не пронимал.
После инсульта Трофим стал судорожно вспоминать свои стихи, тетрадь с которыми перед войной уничтожил. Он хотел проверить – не чувства, нет; какие чувства в конце восьмого десятилетия? – он хотел проверить свою память. И к собственному удивлению (оказывается, он ещё мог удивляться), вспомнил почти всё. По ходу воспоминаний записывая это всё в тетрадь. Лишь изредка в ней, после неполных строф, встречалась такая фраза: «Окончание запамятовал…»
И вот оно, это «М.» – посвящение.
Был город одарён луной,И мириады звёзд мерцали,А мы с дружком с тобой однойНа берегу реки стояли.Пред нами пенилась река,Мы были пафоса все полны,Был виден мост издалека,Под ним катились тихо волны.Был слышен голос вдалеке:Частушки девушка там пела —Луна купалася в реке,Как будто в зеркало глядела.А сзади нас журчал ручей,Неся воды поток спесивый,Но наших шуток и речейНе заглушил тот плеск игривый.Жалею я, зачем мы с ним(А не один с тобой – одною),Любуясь полною луною,На берегу реки стоим.Весна 1926 года«Ох, Трофима, какой же почерк у тебя скверный стал, – подумала Аля. – Писарь ты мой – со станции Дормидонтовка… Как курица лапой».
Трофиму в 1926-м было пятнадцать. Машеньку он «отбил» у своего однокашника – друга детства.
Машенька была его первой женщиной. В уездной переходной – от царской России к советской, от военного коммунизма к НЭПу – провинции взрослели быстро.
Когда им с Машенькой было по пятнадцать, отец – ещё живой – обручил их в Спасской церкви – ещё не разрушенной. Он, «представитель “Живой Церкви”», как его называли с двадцать шестого года, поднялся над канонами, общественным мнением и предрассудками – попа́ из него сделала жена. Которая была против. Будущего. С Машенькой.
И тогда отец узаконил их не по родительскому, а по небесному праву. Которым тоже – пока – обладал.
Но будущего не случилось.
Мать написала в уездный отдел ОГПУ заявление на сына.
Машенька от него отреклась.
Отец… А что он мог сделать?
И Трофим бежал.
Из дома.
Из города.
Из прошлого.
Тогда появились другие стихи. Другое посвящение. С той же «М.», но теперь – другое. Такое.
Тоска мятежно давит грудь,Душа исполнена терзанья —Я жду от Вас чего-нибудь:Иль тихой ласки, иль признанья.Мне не с кем горя разделить —Я предан всеми и осмеян,Судьбой жестоко обнадеян,И нет того, кого любить.Я «чуждый» – «гнусный» – элемент!За что же так меня прозвали?Узнав о том, в один моментИ Вы меня чуждаться стали.Но пусть же трупом будет тело —Душа поэта не умрёт.Она, вперёд шагая смело,Себе пристанище найдёт!Станция Лутошкино, осень 1926 года3И нашла. Правда, только через восемнадцать лет. За это время советский человек становился совершеннолетним – и Трофим, кажется, тоже стал: в тридцать три года, после контузии, он, вдруг захотев дальше жить, снял свой «обет безбрачия».
Правда, про Клавдию он напишет:
Как жаль, что я ошибся в Вас,Признав за умную девицу,Не разглядев, что правый глазУ Вас косит на поясницу.А я электрик и поэт —Так нам с тобой сравненья нет!У Али была своя комнатка в центре – у одной старухи снимала.
В эту комнатку одним поздним дождливым вечером Трофим и пришёл:
– Мать совсем запилила. Я у тебя буду жить – ладно?
А она – в платьице в горошек чуть выше кривых коленочек, со школьными косичками, хотя и давно не школьница (какая там школа? Пять классов в родном селе – и из о́тчего дому в город, работать – ночной няней в детдоме) – вся сияет и светится – то ли от счастья, то ли от голода.
Так и стали жить вместе.
А потом…
Потом – опять мать. Пришла как-то к ним и жалится:
– Огород зарастает, а мне одной уже не сподручно – больная вся. И воду под гору таскать с реки несподручно стало… И вообще – целый дом стоит от отца в наследство – пустой простаивает, – а вы тут в комнатушке ютитесь. Не по-человечьи это. Хватит вам по чужим комнатям-то мыкаться.
Так и переехали в родительский дом. Уговорила их мать.
В первую «брачную» ночь в родительском доме мать с глиняным горшком в руках встала под дверью их спальни. И когда, наконец, услышала, как сын полез на Алю, то от ревности и от вредности «уронила» со всего маху кувшин на пол. И Трофим, ещё не оправившийся от контузии, заикавшийся, – выбежал вон. В чём мать родила. И долго ещё сидел на балконе, не решаясь вернуться туда, где его ждали две любимые женщины, ненавидящие друг друга.
Матери поверили себе в убыток. Мать стала требовать с них деньги. За жильё. Они в одной половине дома живут, она – в другой. Вот и будьте добры за свою, то есть за её половину платите. То есть весь дом – её, а вас тут в помине не было, тёплинской сволочи!
Это она так Алю с её детьми звала. С их детьми! – Трофима и Али. Потому что Аля из Тёплого была – её родное село, пятнадцать километров от города. Так и звали её по-уличному: «Аля из Тёплого, “тёплой” свекрови сноха».
Ох, сколько она, эта Аля из Тёплого, натерпелась и настрадалась – от этой той ещё семейки, от этой больной, припадочной свекрови, которая в приступе била её, беременную. Отчего её первенец, Геннадий – Гена, Геночка, Геня – родился синим. Синюшным.
Вы́ходила. Вымолила – у Бога, у смерти. Тысячу слёз пролила. Над постелью – его и своей. Выжил.
То ли от этой младенческой закалки – прививки от смерти, – то ли от земли с огорода, которую в самые голодные сорок седьмой и пятьдесят первый годы вместе с коренюшками жрал, вымахал он под метр девяносто ростом.
Хотя если знать, где упасть… Маленькими Генка с Ванькой полезли через забор, отделявший их половину участка от бабкиного, высаженного дедом, сада. Сторожа́ подзаборные, нанятые бабкой на деньги, которые ей платили сын со снохой (бабка на старости лет, вспоминая, как родительский сад в поместье охраняли от крестьянских мальчишек дядьки с берданками, впала в помещичье детство), увидев «тёплинских сволочей», тырящих яблоки, открыли огонь.
Благо, вместо дроби была соль.
После этого Трофим сказал матери, что платить «за квартиру» он больше не будет.
И тогда мать пошла в милицию. И, как это уже водилось за ней, вновь написала на сына заявление.
В день суда Генка с Ванькой стали собирать свои детские пожитки: Генка перетянул верёвкой книжки, чтобы было удобно нести; Ванька взял удочки, ведро, положив в него садок… Вдруг видят в окно – папка идёт. С милиционером! Ну точно теперь выселять будут. Они – к отцу: облепили его, как цыплята:
– Ну что, что?
А он – молчит. И серьёзный такой.
– Ну что, Трофим – что? – подперев ладонями поясницу, вытянула, как гусыня, шею Аля. – Ну чего молчишь?!
И тут насупившийся Трофим растёкся в улыбке, словно Гагарин (он как раз тогда полетел):
– Никто нас отсюда не выселит. А выселять надо нашу бабушку! Товарищ старший лейтенант, верно?
– Верно, товарищ Трофим Иваныч. Где она, кстати?
– Да как всегда, небось, дома лежит – нездоровится ей, – на этих словах Трофим так рот растянул и глаза прикрыл, что в одно мгновение – с очертившими лицо морщинами – стал копия своей матери.
– Бабушка, – участковый склонился над сидящей в кресле «Пиковой дамой», – это не их нужно выселять, а тебя – тебя здесь нет. Ни в одном документе.
Подняв архив БТИ, суд, вместе с завещанием Кручининой Александры Степановны, оформленным, как оказалось, ещё в 1926 году, вскрыл и этот, поразивший «графиню» факт: в своём завещании Кручиина Александра Степановна завещала принадлежавший ей дом по улице Спасской своему сыну Ивану и двум своим внукам, сыновьям Ивана – старшему Трофиму и младшему Льву. Но поскольку Иван теперь был реабилитирован посмертно, а Лев теперь проживал в своём доме в соседнем районе и на собственную долю родительского дома не претендовал, то единственным законным наследником оставался Трофим. Имени её, Ляли – жены Ивана, матери Трофима и Льва, свекрови Али и, наконец, Генкиной с Ванькой бабки – ни в одном документе, действительно, не оказалось. Ни одного, даже буквенного намёка, по которому эти буквы можно было бы интерпретировать как её инициалы, – не было.
Её забрала к себе племянница – Тамарка, тёти Пашина дочь. Приёмная. Которая жила в Вильнюсе. Её муж рассказывал потом Але по телефону, как однажды, придя с работы домой раньше привычного, застал «графиню», стоящую на коленях перед его женой, рыдающую и умоляющую вернуть её обратно.
Когда за ужином Аля передала Трофиму телефонный разговор с Вильнюсом, Трофим сказал:
– Теперь – никогда.
Она хотела помереть на родной земле и в неё же лечь. Когда поняла, что не случится (то есть помереть-то случится, а дальше – уже не то), стала умолять Трофима к ней прилететь – привезти с огорода в мешочке землю, которую она положит себе под подушку и с ней уснёт. Уже навсегда. Трофим тогда повторил свою фразу.
Она похоронена на вильнюсском кладбище. Ни Трофим, ни Лев никогда там не были. И – уже не будут.
Глава пятая
(Автобиография Кручинина Т. И.)
Аля вспомнила, что эту автобиографию, отпечатанную машинописью на жёлтой бумаге (жёлтой – не от времени, а по качеству, хотя кое-где засечки на чёрных буквах всё-таки покраснели от времени), Трофим писал для совета ветеранов. Один экземпляр муж отдал председателю, а второй оставил себе.
Я родился 6 мая старого стиля – 19 мая по новому стилю – 1911 года в уездном центре в семье учителя церковно-приходской школы. В то время наш город был уездным центром, а Тамбов – губернским.
«А то, что отец священником был, не написал, – подумала Аля. – Конечно, там же в совете все коммунисты были (теперь уж – действительно “были”) – какой священник? Автобиография – она ж документ официальный. И пишется для лиц и поводов официальных. Для других она пишется, а не для себя – хоть и “авто…”. Ладно, дальше читаем».
В 1926 году я окончил опытную школу-семилетку /сейчас средняя школа № 4/. Учиться далее я не имел возможности и уехал в город Козлов /ныне Мичуринск/.
«Ага, так, значит, объяснил. Нет, ну а что, учиться и правда тут было негде тогда».
Устроился на работу в съёмочную партию по инвентаризации жилого фонда /домостроений/ при Козловском горкомхозе. В 1930 году осенью нашу партию перебросили на станцию Лиски ЮВЖД /ныне город Георгиу-Деж/. В 1935 году я окончил заочно Воронежский железнодорожный техникум по специальности техника-электрика-энергетика и по разнарядке последнего был направлен на Дальний Восток в Хабаровский край. Там я работал старшим электриком одного из лесозаводов.
«Да, тебе ещё тогда покойники дядь Вася, дядь Федя и дядь Петя (вот, кто настоящие коммунисты были), говорили: “Уезжай ты, Трофима, куда подальше – пока всех не зачистили”. Вот ты подальше – на Дальний Восток – и уехал».
1941 года 20 июля я окончил электротехнический институт заочно /Харьковский электротехнический, а филиал от него был во Владивостоке/, а 25 июля того же 1941 года я был призван в армию и направлен на японо-маньчжурскую границу в село Ново-Никольское, что на левом берегу Амура /а Маньчжурия находилась от нас через Амур на правом его берегу/. Здесь я был назначен помощником командира взвода в отдельный стрелковый батальон № 150. Звание в то время военное у меня было старший сержант. В этом батальоне я прослужил до декабря месяца 1942 года, до того самого момента, когда военная группировка фельдмаршала Паулюса под городом Сталинградом была полностью окружена и опасность городу Сталинграду была ликвидирована.
Из села Ново-Никольского я с маршевой ротой был отправлен на Западный фронт добивать фашистов. 17 января 1943 года в одном из ожесточённых боёв с немцами на озере Селигер со взводом ПТР /противотанковые ружья/ после уничтожения мною одного немецкого танка «Тигр» и 5-ти человек пехоты немцев я был ранен осколком немецкого снаряда, и меня направили на излечение в эвакогоспиталь № 1919 в местечко Усть-Долыссы.
В этом госпитале я пролежал два месяца, после чего попал в 247-й стрелковый полк 37-й /гвардейской/ стрелковой дивизии 15-й армии 2-го Прибалтийского фронта – снова на должность помощника командира взвода, во 2-ю роту. Командиром этой роты был старший лейтенант Волков Александр 1912 года рождения. Командиром нашего батальона был казах по национальности в звании гвардии капитана с орденом Александра Невского. Фамилию его я не помню сейчас: русские фамилии запоминаются надолго, а эти – нет.
В этом батальоне я провоевал до 12 марта 1944 года. В этот день остаток нашего батальона, подкреплённый пулемётным расчётом, получил задание: к западу от озера Селигер Валдайской возвышенности /в то время Калининской области, сейчас какой, не знаю/ отрезать пути отхода отступающим немцам, закрепившись на одной из высоток. Но до этой высотки нашему батальону дойти не удалось: фашисты почему-то обнаружили нас и по нашему подразделению, расположившемуся в лесочке правого берега озера Селигер, открыли огонь. Осколком шрапнели я был ранен в теменную область головы, после чего по телефонному кабелю командного пункта командира роты старшего лейтенанта Волкова бегом направился в тыл до командного пункта комбата. Но по дороге был вдобавок к головному ранению контужен разорвавшимся вблизи меня снарядом фашистского шестиствольного миномёта и засыпан взрывом по шею.
Аля беззвучно плакала. Слёзы острыми каплями падали на Трофимину биографию. Аля вспомнила сейчас всё, что он ей рассказывал о войне. Почему сама не расспрашивала? – никогда, ни о чём! Если только он сам не рассказывал. А ведь он не рассказывал. А если рассказывал – то всегда одно и то же: про эту высоту, которую они так и не взяли, про эту свою контузию…
Алины плечи и голова тряслись (как Трофимины – в моменты припадков) от глухого рыдания, которое она сдерживала, чтобы не разбудить Ваньку, чтобы не потревожить Генку – чтобы Трофим спокойно себе отходил…
Читая автобиографию, она слышала его голос – не нынешний, ослабший и севший, а прежний – грудной тенор, которым он пел ей «Неаполитанскую песенку» в тёплинскому лесу.
Теперь этот голос её покидал. Как тогда, устремляясь в весеннее небо и растворяясь в нём. Только тогда она знала, что небо его отразит обратно, и эхо от этого голоса – самого милого сердцу – разольётся по свету. Потому что эхо уже бежит по его следам.
Глава шестая
(Продолжение автобиографии)
Меня откопали случайно встретившиеся мне наши разведчики и довели до КП комбата. После этой контузии я лишился слуха и речи. На излечении я находился два с половиной месяца в городе Бежецке Калининской области, в эвакогоспитале № 190.
Справка
247 стрелкового полка гвардии старшина Кручинин Трофим Иванович на фронте Отечественной войны 12.03.1944 г. получил контузию и слепое осколочное ранение правой лобной области, по поводу чего с 12.03.1944 г. находился на излечении в эвакогоспитале № 190, из которого выбыл 14.05.1944 г. в больницу им. Кащенко.
Речь и слух ко мне возвратились через два месяца, но стали мучить припадки. Из Бежецкого эвакогоспиталя меня направили для дальнейшего лечения в город Москву, в психиатрическую больницу имени Кащенко, где я пролечился ещё один месяц. После этого 20 июня 1944 года меня комиссовали, и больше на фронте я не был.
Самым памятным днём в военной жизни запечатлелся бой с немецко-фашистскими захватчиками 10 марта 1944 года. 9 марта в ночь погиб старшина моей роты Буркацкий Пётр Васильевич, 1910 года рождения, украинец – мой лучший фронтовой друг. И я командиром батальона был назначен старшиной моей роты. Рано утром 10 марта я пришёл кормить остатки роты и батальона /в ночь с 9 на 10 марта много наших бойцов вышло из строя/. Накормил их и хотел было возвращаться на исходный рубеж, но тут вдруг в небо взвилась красная ракета – сигнал к атаке: мы должны освобождать от немцев деревню Котово Калининской области. Прошла артиллерийская подготовка, и наши войска пошли в атаку на врага. Но в этот момент был тяжело ранен командир отделения взвода нашей роты, и я по разрешению комроты принял команду над отделением и быстро пошёл в бой. Был кромешный ад: со всех сторон строчили пулемёты, автоматы немцев и наших.