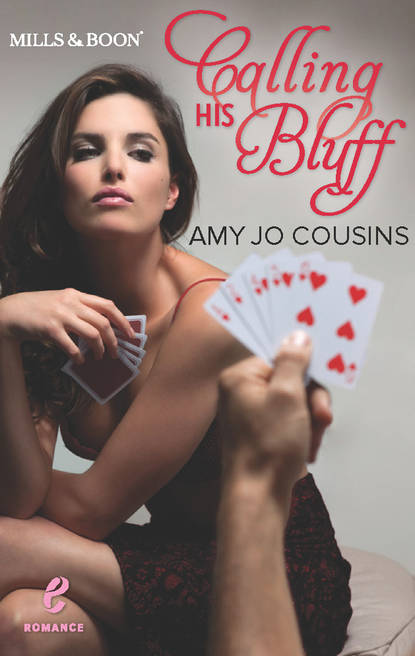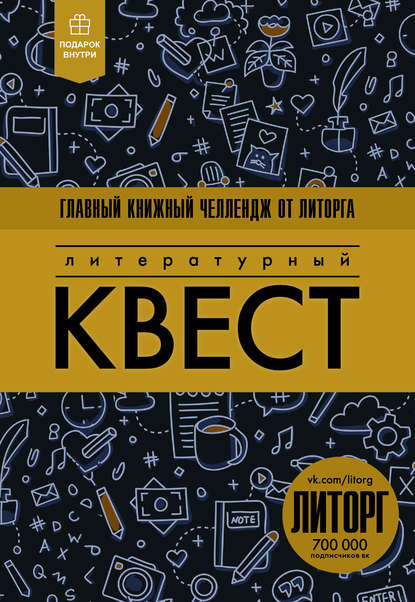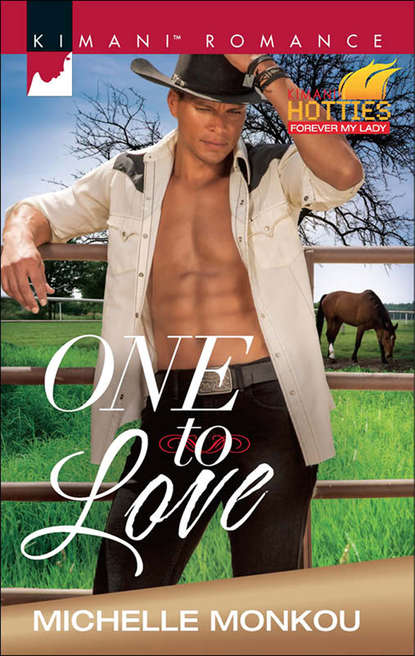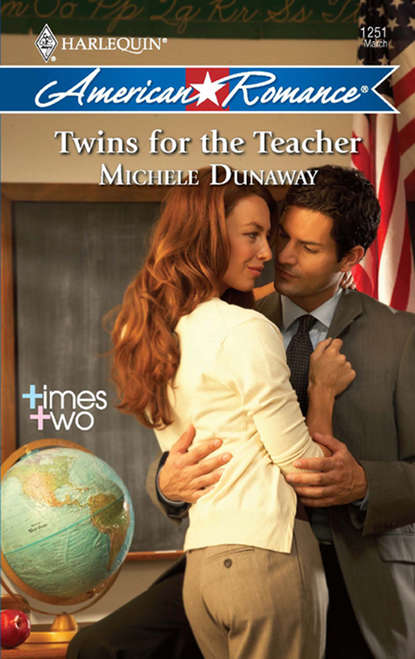Ныне и присно
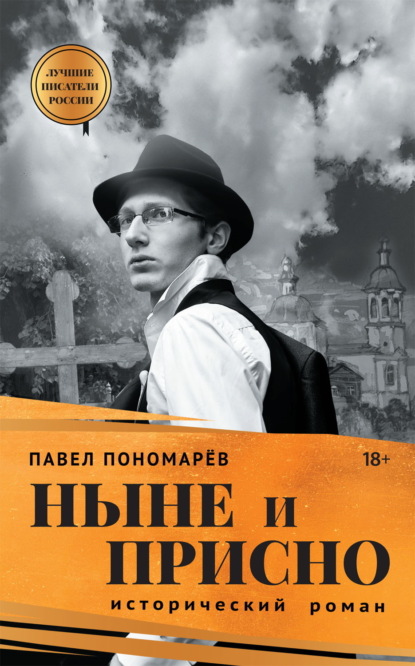
- -
- 100%
- +
Мы освободили от немцев три траншеи /а они оказались довольно глубокими/. В четвёртой траншее я наткнулся на фашистского обер-лейтенанта, который с пистолетом марки «Парабеллум» бросился на меня. Но в этот момент сзади один боец из принятого мной отделения автоматной очередью выбил пистолет у врага, и мы его взяли в плен. Далее, очищая траншеи от фашистов, мы взяли ещё двух гитлеровских вояк: немецкого ефрейтора и румынского рядового. За этот бой я был награждён орденом Красной Звезды, но он нашёл меня уже дома в 1945 году в конце лета. Вот и всё о моих боевых делах.
Со своими боевыми товарищами я связи не имел и не имею в настоящее время, так как все они, видимо, погибли. О своём командире роты старшем лейтенанте Волкове я, будучи в Бежецком госпитале, слышал от старшины нашего батальона. По словам старшины, Волков погиб в одном из боёв после меня /т. е. моего ранения/ – ему снарядом снесло голову. Об остальных ничего не знаю. Старшина Буркацкий П. В. погиб на моих глазах в ночь с 9 на 10 марта 1944 года от вражеской мелкокалиберной мины.
После войны с 1945 по 1946 год я работал директором ГЭС при городском коммунальном хозяйстве.
Официальная причина увольнения Трофима с должности директора ГЭС ничего общего с реальными основаниями не имела. Аля об этом, конечно, знала. Потому что сама стала причиной этих оснований. Которых официально быть не могло. Сейчас всё это, казавшееся теперь идеологическим самодурством, тоже вспомнилось. А тогда, разумеется, так не казалось.
Председатель горсовета Петрова Е. А. – Катерина Лексевна – до войны родила внебрачного сына от председателя сельсовета Петра Алексеевича Сулаева – дяди Пети, родного дядьки Трофима. По матери.
Дядя Петя оказался героем не только в постели: летом сорок третьего он лёг в братскую могилу, сложив голову на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. И воспитывать Вальку – Трофимову двоюродную сестру – Катерине Лексевне после войны пришлось одной. На что она отнюдь не рассчитывала.
Поэтому когда летом сорок пятого в городе появился орденоносный Трофим, пришедший устраиваться в горкомхозяйство, он тут же попал в поле зрения Катерины Лексевны. Фронтовик – как и дядюшка; разница между ними была лишь в семь лет; и ещё одно лишь – в том, что один выжил и вернулся, а второй остался лежать на Прохоровском поле. Всё это Катерину Лексевну устраивало. Для неё Трофим из потенциального отца её семилетней дочери очень быстро превратился в реального. Она уже спала и видела, как Валькин двоюродный брат становится её отцом. Пускай и приёмным – а у кого они сейчас родные? Где они? Все остались родину – родину-мать – защищать.
Но спать Катерине Лексевне пришлось одной. И видеть сны. Совсем не то, что пришло наяву.
Хотя поначалу всё складывалось так, как она спланировала.
Карьерную лестницу от электрика до директора Трофим перемахнул за месяц.
ГЭС стояла на Дону, километрах в пятнадцати от города. Её генератор, спаренный с единственной водяной турбиной, мощностью был ничтожный – киловатт восемьсот. Но машина надёжная: колесо, ведо́мое турбиной, было с зубом из морёного дуба и с клиновой регулировкой зацепа, что продлевало шестерне срок её службы. Так она, ГЭС, двадцать лет – с зари советской власти – и простояла. И не накрылась ещё. Ни разу.
Работу на станции Трофим, как и положено, организовал по законам почти военного – послевоенного – времени: за опоздание на двадцать минут – уголовка.
Он не лютовал, нет – это так только, для вида. Для порядка. Для дисциплины.
И своего добился: ни одного случая, чтобы кто опоздал, при нём не случилось. Не успели опоздать – за его короткое директорство.
В свободное от работы время Трофим работал с коллективом: сначала – борьба на руках (побеждал, разумеется, директор, но не потому что директор, а потому что сильнее), потом – хоровое пение (солировал сам). Так вырабатывал коллективный иммунитет – и физический, и духовный (и свой заодно), – который ослабила война.
Шипит запруда; вода окатывает каменных идолов, сваленных со скалы левого берега, за которым отчёркнут зелёным штрихом Монастырский лес. И тянется за ним гулкое сольное:
– Из-за острова на стрежень…
Или:
– Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля…
(Как раз только-только в городе появились пластинки Апрелевского завода, на которых Лемешев перепевал эту песню по-своему – и Трофим повторял за ним.)
А потом появилась она – Аля.
И все трое резко поняли, что дальше – тишина. Для каждого – своя. Личная. Для Катерины Лексевны – в постели, для Трофима – в карьере, для Али – в семье. Будущей – большой и дружной, которую Аля уже напридумывала себе с Трофимом. (Всё это, и правда, будет, только не так, не совсем так, да что уж – совсем не так, как она себе представляла.)
Катерина Лексевна, узнав про Алю с Трофимом, стала ставить палки в колёса – откомандировывать по решению горсовета группы рабочих на лесозаготовки в Сибирь, где не хватало рук. В одну из таких групп – по разнарядке Катерины Лексевны – вписали Алфимову Алевтину, мужского мастера-парикмахера. Трофим, когда узнал об этом, вызвал служебный транспорт и примчался со своей ГЭС в центр, в горисполком, влетел в кабинет к Катерине Лексевне и выдал:
– Двух мужиков тебе своих даю – рабочих со станции. Двух! Ослабани хватку, Катька – уволь её от лесозаготовок. Христом Богом прошу, уволь!
– Бог с тобой, Трофим – я скорее тебя уволю. Ты в каком государстве живёшь, забыл? Мы вам напомним, Трофим Иваныч: религия – идеологический пережиток прошлого. А если вы, товарищ директор, считаете по-другому, то вам не место в нашем руководстве, в нашей, если на то пошло, партии, в нашем, в конце концов, коммунистическом обществе!
– Дура ты, Катька! Чем ты меня пугаешь? Я и так беспартийный.
– Дура я, правда – вы же у нас не в партии, товарищ Кручинин. А я и забыла. И другие, видать, забыли… Но ничего – мы им при случае напомним. Вы свободны, Трофим Иваныч – занимайтесь работой, а не личной жизнью.
– Ах ты, сука!.. – Трофим хлопнул дверью.
– Увольняйся! – тем же вечером приказал он Але.
– А жить на что?
– Прокормимся. Увольняйся, сказал! Так она тебя не тронет – безработную…
А вскоре на очередном заседании райкома товарищ Козлов поднял вопрос о том, почему руководящие должности в районе занимают беспартийные лица. В частности, товарищ Кручинин, директор ГЭС. Тут же кто-то добавил:
– Так ведь он ещё из неблагонадёжных: сын попа, врага народа.
Эту дискуссию прервала председатель горсовета товарищ Петрова, которая напомнила, что товарищ Кручинин опытный энергетик, воевал, ранен, награждён орденом – это оправдывает его перед партией и советским народом, за который он пролил кровь. Может быть, не обострять вопрос, а предложить товарищу Кручинину перейти с руководящей должности на исполнительскую? Дабы его, как выясняется, небезупречная репутация не послужила для нашей партии и для наших граждан отрицательным примером местного самоуправления.
– Вы говорите, Кручинин – опытный энергетик, – вмешался военком Шевчук. – Мы найдём ему замену?
– Вы забыли слова товарища Сталина на семнадцатом съезде ВКП(б), товарищ Шевчук?
Глава седьмая
(Конец автобиографии)
После освобождения меня с должности директора ГЭС /ввиду того, что вернулся с войны бывший до войны директор этой ГЭС Пузанов Ю. А./ я ушёл на строительство, шедшее в то время, машиностроительного завода. С начала 1946 года и до июня 1948 года я работал на нём начальником энергоцеха. Ушёл по болезни /обострилась контузия/. В конце июня 1948 года устроился на литейно-механический завод в должности старшего электрика. В начале сентября 1955 года я ушёл с завода в Спасо-Казацкий сельсовет электриком, где и находился на работе до 1975 года, вплоть до выхода на пенсию по старости.
В данное время я нигде не работаю, здоровьем похвастаться не могу, война его крепко нарушила.
Акт освидетельствования ВТЭК
Гр-н Кручинин Трофим Иванович признан инвалидом II группы; инвалидность установлена бессрочно.
Причина инвалидности: контузия при защите СССР.
Очередное освидетельствование: бессрочно.
Основной диагноз: постконтузионная энцефалопатия, посттравматический артроз, артрит левого коленного сустава после огнестрельного ранения.
Заключение: нетрудоспособен.
Центральная районная больница
Справка ВКК № 398
Выдана: Кручинину Трофиму Ивановичу
Диагноз: церебральный атеросклероз, вторичная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, хронический бронхит, диффузный пневмосклероз, эмфизема лёгких, дыхательная недостаточность I ст.
Нуждается в постоянном постороннем уходе.
Мой совет молодому поколению: берегите мир, боритесь за него не покладая рук, уж слишком дорого он нам достался.
Ветеран Великой Отечественной войны,
Ветеран труда,
инвалид войны II группы
Т. И. Кручинин
* * *Трофим Иванович почувствовал, как что-то надавило ему на грудь. Забытое, но некогда уже бывшее с ним.
Когда?
Он рано начал упражняться – ещё в детстве. Испытывал себя, сам себя выковывал. Чтобы никакие припадки не одолевали больше, чтобы никакая давящая сила никогда больше к нему не приходила.
Это было незадолго перед тем, как он ушёл из дома.
Сад их опоясывала каменная ограда – невысокая (ребята с разбега её перемахивали), сложенная из того же известняка, что и фундамент их дома, и балкончик.
Трофим снял с ограды самые крупные камни, сложил их в кучу, разделся до пояса, лёг рядом на молодую траву и стал класть камни себе на грудь.
С каждым камнем дышать становилось тяжелее.
Камни вдавливали его ещё не оформившееся, почти детское тело в землю, а земля – влажная, до конца не просохшая после зимы – втягивала в себя выпиравшие лопатки, позвонки…
Сейчас он задохнётся. Но кричать нельзя. Закричать – значит дать слабину, значит сдаться.
– А-а, – вполголоса застонал Трофим, выпуская воздух из груди, сжатой камнями, где он, воздух, уже не помещался.
Молодые голуби, которых разводили Кручинины, увидев Трофима и его открытый рот, подумали, что сейчас их будут, по обыкновению, кормить пшеном, смоченным слюной. И полетели к Трофиму. Сели на камни, сложенные на груди, перескочили на плечи, потом на шею. Лапками вцепились в кожу – до крови – и стали совать свои клювы в рот. Трофим окончательно стал задыхаться.
И вдруг подскочила лохматая, мышиного цвета дворняга Шпулька. Голуби боялись её больше, чем чёрного, диковатого Мишку – единственного во всей округе кота, спавшего сейчас на разогретой солнцем ограде.
Голуби разлетелись.
Шпулька лизнула Трофима в щёку и, побежав во двор, залаяла так, как никогда до этого не делала: гавканье – вой – короткая пауза… И опять: гавканье – вой – короткая пауза.
Этот системный лай услышал отец Иоанн и понял, что Шпулька зовёт на помощь.
Трофим повернул голову на Шпульку и увидел бегущего в сад отца.
– Па-па.
Мотор остановился, холодильник задрожал, и по дому распался механический убывающий звук. Сердце Трофима Ивановича остановилось – остановилось одновременно с настенными часами, показывавшими одну минуту первого. Ночи, а вернее уже – нового дня. Пятьдесят четвёртой годовщины Победы.
Глава восьмая
(Первое письмо баб. Али)
* * *Здравствуйте, дорогие Лёва, Вера и Надюшка!
Всех вас целую и обнимаю и желаю всем вам доброго здоровья.
Вот и я решила написать после пережитого – нет больше со мною Трофима. Всё никак не могу привыкнуть, всё жду, думаю, что скоро приедет, и я ему что-то расскажу, а его всё нет и нет.
На кладбище меня уже не берут, потому что я сильно плачу там. Сейчас хлопочем о памятнике и ограде. Может, Лёва, ты будешь в силах, ребята приедут за тобой? 9 мая будет год. И Вера с Надечкой, приезжайте.
Заболел он серьёзно еще в позапрошлом году. Был второй инсульт. Но отходили. И он ходил, всё было хорошо. Но слаб уже был. А прошлой весной уже такой странный стал. Наверное, он и сам заметил: память хуже некуда, подолгу сидеть над кроссвордами стал – я даже на него ругалась. А он говорит: надо мозг шевелить. А перед 9 мая что? Пришёл к нему какой-то проходимец, то ли вор, то ли гость, лицо как каменное. Я с этим каменным гостем только на пороге столкнулась – бежал как ошпаренный. Я сразу поняла, что-то не то, забежала в дом, а Трофим мой на пол завалился. Что с ним этот выродок сделал, не знаю. Я сразу в скорую, детей звать. Те подоспели, перенесли отца на диван. Приехал врач-невропатолог, осмотрел и сказал – всё, третий инсульт, ничего не сделаешь, только ждать. А сколько ждать? От семи часов до трёх месяцев – одном Богу известно.
Врач делал уколы всякие, лекарство за большие деньги покупали – и не спасли. Ночью, при Генке, Ваньке, и я была, зажгли свечу – и он открыл глаза. Ну думаю, теперь одно из двух: либо на поправку, либо – на тот свет. И в полночь Генка кричит: ма, беги, кажется всё – отходит! Он при отце сидел, глаз не сомкнул. Ванька в комнате спал, а от Генкиного голосины тоже проснулся. Мы подбежали, а он посмотрел на нас и губами как рыба два раза – шлёп-шлёп, так, что у него получилось, точно он отца зовёт, только без голоса. И слышим, сердце как мотор у машины глохнет, два раза подряд: раз, два… и всё. Вот так, милый Лёва. Ты знаешь, как тяжело, ты сам пережил это, ты свою жену любил, я это знаю.
Помянули хорошо. У нас теперь кручининское гнездо развилось, так что не одна: внучки красавицы – сыновей дочери, правда, обе матери-одиночки. Но зато и правнуки есть. А получаем плохо. Я пенсию за сентябрь пока не получила.
Тут ещё одна забота – надо в наследство входить. Пошла к нотариусу, детей водила, они писали там заявления, каждый от себя, что отказываются от моего наследства. А остальное всё пошло кувырком. В Б.Т.И. ничего нет и у нотариуса ничего нет – всё выбросили. Нет даже купли-продажи, что дом подарила Трофиму ваша бабушка. Хорошо, у Трофима была выписка из Б.Т.И., но от руки и без печати (видать, он попросил тогда нотариуса сделать). Но эта сволочь нотариус умерла, и никто теперь ничего не знает, и доказать нельзя. Вот такая жизнь у меня теперь, живу одна.
Лёва и Вера, напишите, как вы там, может, что нужно, как там и в каких условиях вы живёте, опишите. Если что я не так написала, извините, потому что пишу и плачу.
1
На годовщину отца Генка всё-таки повесил часы обратно.
Мать не хотела: говорила, что они о Трофиме напоминают, и она постоянно, когда часы отбивают время, начинает плакать – как заведённая.
Впрочем, о Трофиме ей напоминали не только часы. Прошлой весной, сжигая мусор с огорода, она, пользуясь моментом, выгребла лежавшие в сарае газетные вырезки «Пути к коммунизму», в котором Трофим Иванович публиковал свои фельетоны под псевдонимом «Скипидар», и отправила их до кучи в костёр.
Генка, когда узнал, протащил мать по ней же самой – по матушке, значит – и удобрять этой золой огород отказался.
В том числе и поэтому ещё – вроде бы назло матери, но без злого умысла (наоборот – ради отцовской памяти) – Генка решил починить часы.
Голову сломать, но починить самостоятельно – без доморощенных советчиков.
Каждый вечер он возвращался с работы и шёл к матери – из своего двора в её.
Дворы соединялись дорожкой, возле которой стоял материн курятник. На его крышу, сложенную из шифера, постоянно прилетали голуби. Сколько помнит Генка себя – всегда прилетали.
С детства он думал, что голуби прилетают на курятник, потому что видят зерно, посыпанное курам. Тогда Генка брал с земли камень и швырял его в голубей, по крыше, издавая при этом пугающие, как ему казалось, звуки:
– К-ш-ш-ш!
Генка не знал и не мог знать (никто ему не сказал об этом в детстве, а теперь было некому), что голуби прилетали сюда по старой памяти, потому что отсюда пошли их предки, которых разводили Кручинины. Потом дом отобрали, и голуби улетели. А когда вернули – и дом вернули, и Трофим с войны пришёл, – голуби прилетели обратно, – но вспоминать уже было нельзя.
– Правильно, пап?! – маленький Генка разгонял камнями голубей, называя их ворами, попрошайками, а Трофим смотрел на него своим морщинистым лбом – и молчал.
– Правильно, сынок, так им, выродкам недобитым! – отвечала мать.
2
Все вечера, пока стояла тёплая погода, Генка возился во дворе: разбирал часы, пытаясь понять, как они устроены, что в них неисправно и как сделать так, чтобы они заново пошли.
Когда начались дожди и погода испортилась, Генка перебрался в сарай.
Всю осень и всю зиму Генка просидел над часами. Разобрал и собрал их заново, но ничего не получилось – часы стояли.
В один из вечеров пришёл домой раньше обычного. Ужинать не стал. Лёг и попробовал заснуть, хотя было ещё только начало девятого. Что-то изнутри давило на черепную коробку – росло и распухало.
«Утром проснусь, и всё пройдёт – как всегда».
Так и произошло.
Но вечером всё повторилось.
Лина, Генкина жена, начала пороть горячку – как всегда, если кто-то заболевал в доме, особенно Генка, в принципе никогда не болевший.
– Просто устал, – отвечал Генка, – поэтому есть не хочу.
Про голову ничего не сказал.
Следующие несколько дней Генка к часам не подходил. Голова как будто сузилась до прежних размеров, и ничего как будто и не было.
Генка понял: надо переждать. А потом всё само собой выйдет.
На несколько месяцев он о часах забыл.
3
Девятое мая Генка всегда отмечал с Кондратом и Снюсаревым. У всех троих отцы воевали в пехоте, а сами они – все трое – оказались танкистами. Снюсарев служил в Рязани, Кондрат в Азербайджане, Генка – в ГДР. Правило было такое: расходиться только после того, как вместе споют «Трёх танкистов». Петь после третьей – пол-литры – можно, раньше – ни-ни. Так было и на это Девятое мая.
Кондрат до дома пошёл пешком (ему тут – двадцать минут от силы), Снюсарев – как всегда, на своих «Жигулях»; а Генка пошёл в сарай – догоняться. В сарае у него всегда была заначка.
Зашёл в сарай, покосился на часы, по привычке, не подходя к ним, – и ошалел: часы ходят.
Нет, это не спьяну – часы, правда, идут.
И хотя показывали они совсем не то время, что было в реальности, Генку это не смутило – внешне они были исправными. Точно, точно.
Но Генка, подводя их до нужного времени, сверяясь со своими наручными – командирскими, – всё же хотел понять: во-первых, будут ли они завтра, по прошествии ночи, показывать это нужное время; во-вторых – будут ли вообще его показывать – после того, как проспится.
Догоняться не стал.
Проспавшись, первым делом пошёл в сарай.
Часы тоже шли. И показывали без двадцати шесть – так оно и было.
Генка пошёл к матери – захотел разбудить и ей первой рассказать о том, что наконец-то завёл часы.
Но мать уже проснулась: оказалось, часы, отбивавшие каждые полчаса-час, лишили её сна на всю ночь.
– Ну артист – хоть бы сказал, что ты их починил! Меня чуть кондратий не хватил в полуночи!
– Ты с ними тридцать пять лет прожила – отвыкла, что ль?
– Год прошёл…
На следующий день – в годовщину – Генка повесил часы – с обновлённым корпусом, покрытые лаком и медью, – в комнате, где они висели всегда.
Лев Иванович Кручинин, живший в соседнем районе, на годовщину брата так и не приехал: за две недели до этого, на Чистый четверг, он упал и потерял речь.
Глава девятая
(Второе письмо баб. Али)
* * *Здравствуйте, дорогие Лёва, Вера и Надюшка!
Всех вас крепко целую и обнимаю.
Дорогая Вера, письмо и открытку я получила. Спасибо вам большое за поздравления. А я-то вас поздравила телеграммой, но мне пришло в ответ: телеграмму не вручили, и за ней никто не приходит, и дом закрыт. Волновалась я. Но Гена успокоил меня – говорит, может, они в городе празднуют Пасху. Но вот открытка ваша успокоила, но не очень, что с папой Лёвой плохо. Ноги сейчас болят у всех. У д. Трофимы последние два года, после инсульта, ходили плохо. Иногда я его таском на себе со двора тащила, если ребят нет никого дома. Он уйдёт во двор, а обратно не может – посидит или постоит. Если бы не этот сучёнок паскудный, имени его даже не знаю, Трофима наш жил, точно вам говорю! Что ему было нужно?! А лицо каменное, ни кровинки в лице – что за каменный гость такой был? Ну Бог ему судья.
Если у папы с головой всё хорошо, то он будет ещё бегать. Здоровья ему Бог надолго оставил!
У нас прошёл хороший дождь, но до этого было 5 мороза – всё цветение погибло, совхозы бурак пересеивают. А как у вас всюду и вообще в огороде?
Милая Вера! помянули Трофима, годовщину. Ходила в церковь, обедню, кутью заказала, читалку нанимала – всё, как положено. 20 чел. было, все свои. Купили ограду, 800 р. Поставили памятник мраморный и гробницу, 2500 р. Цветов насажала. И он мне приснился. Стоит в огороде. А там всё растёт уже, даром, что май. Он говорит, радость какая, вот молодцы!
Суд, значит, был. Признали дом моим. Но в отдел недвижимости, в земельный отдел ещё нужно 350 р. отдать, а я 3 месяца пенсию не получаю. Не знаю, когда всё это кончится. Но дело близится к концу. Надо тянуть до конца. Хочется, чтобы дети на меня не ругались – вот, есть документ. Хотя у них свои дома, они не нуждаются, а отцовская и дедова памяти останутся на всю жизнь. Значится, здесь жили старики Кручинины. Вот такая у меня жизнь.
Целуй Надюшку. Здоровья Лёве, поцелуй его от меня. А тебе, Веруша, большого терпения и сил.
Обнимаю!
т. Аля.
Извините, пишу плохо, потому что плачу и буквы не вижу.
1Выговорение – это память родства. С прядью волос, с фотокарточкой, со спиленной вишней…
Надо вспомнить имена всех. И произнести их про себя.
Сначала – тех, кто всегда рядом.
Иван, Ольга – родители…
Софья – суженая…
Вера – дочь…
Надежда – внучка…
Трофим, Алевтина…
Потом – тех, от кого у тебя веки веков; тех, кого повторяешь; тех, кто сверху, за твоим правым плечом, выводят перед тобой места, даты, встречи.
Василий, Александра – дед, бабушка…
Егор, Анна – прадед, прабабушка…
Михаил, Анна – прапрадед, прапрабабушка…
Сергий, Феодосия – 6-е колено…
Данила, Матрона – 7-е колено…
Иван, Евдокия – 8-е колено…
Василий – 9-е колено…
10-е колено – <..>.
Всё помнится, всё болит: и на сомкнутых засыпающих ресницах на серых с просинью веках выступит мартовская капля – растаявшая льдинка. Первая тихая весть о весне.
Так уходил Лев Иванович Кручинин – по молодости идейный комсомолец, по путёвке ВЛКСМ попавший на учёбу в Москву, где лекции читали Вернадский, Вильямс, а стихи – Сурков, Демьян Бедный… Потом – участковый агроном. Потом – словесник сельской восьмилетки. А ныне – член Всероссийского общества охраны природы и руководитель юннатского кружка; автор монографии по мелиорации малых рек. Неизданной.
Уходил – немой и обездвиженный, тихо лежащий в углу астаповского домика, построенного им в устье Гущиной Рясы, чтобы, пусть даже и отдалённо, напоминало донское детство.
2От мощного, разбухшего от постоянного физического труда тела ничего не осталось: белая дряблая кожа обтянула тяжёлые, рассыхающиеся кости. Плечи, как ручки рычагов, торчат по бокам; за ними спускаются лопатки, похожие на голубиные крылья. Рёбра выпирают словно волны шифера на крыше дома. Руки и ноги ветвями, сучьями безобразно разваливаются по кровати, пока их кто-нибудь не сводит вместе. И только лицо остаётся нетронутым уродливой немощью. Черты растворяются и заполняются светом, идущим от лица, свет перетекает в серебряные, кристальные волосы, бороду, закрывающие шею.
…28 апреля, в Великую пятницу, Надя, переворачивая деда и протирая спину, ноги, чтобы не появились пролежни, стала крутить в голове эти две строчки:
Только на Пасху не забирайДай ему встретить майДальше стихи не шли.
А утром 30 апреля, на рассвете (утром на Пасху – всегда солнце), Лев Иванович Кручинин умер.
Хоронили его под колокольный звон: старик Генрих Олегович – выпускник рижской консерватории, отсидевший семь лет на поселении, последний друг Льва Ивановича, почитавший его за астаповского старца, – не мог не исполнить свой долг.
Погребение было скорым. Отец Виталий, рукоположенный полгода назад, исполнял на могиле пасхальные песнопения, совсем не похожие на заупокойные, – с радостью и торжеством.