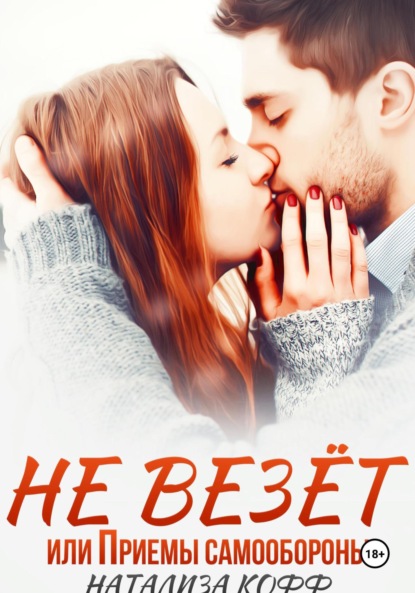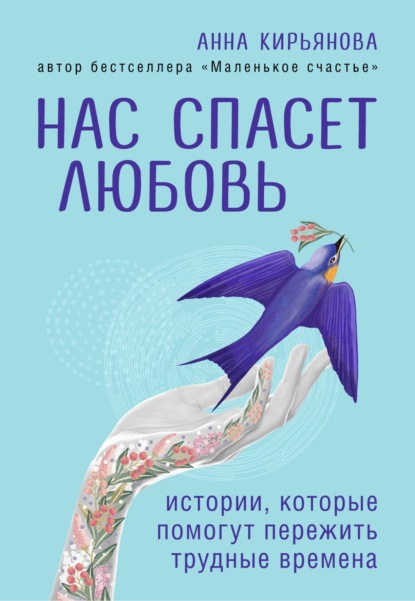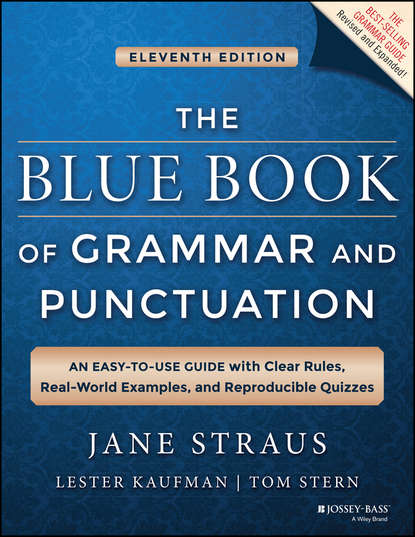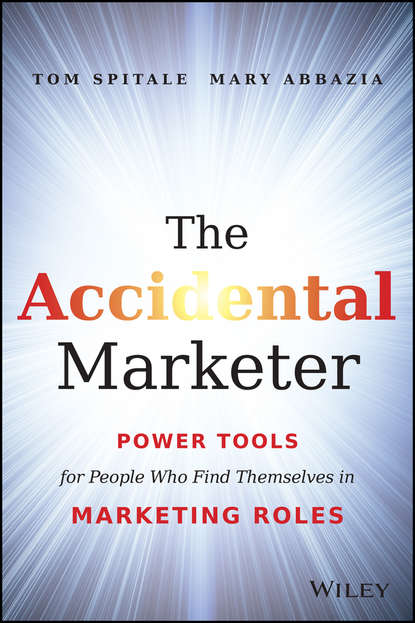- -
- 100%
- +

Ранним утром, да ещё и летом, Татьянин дом просыпался нехотя. Солнце ещё не встало, но уже давало понять, что вот-вот взойдёт.
Роса красовалась на листьях, но ещё не сверкала ранними, свежими бриллиантами. Цветы уже повернули свои изящные головы к хозяйке, но ещё не до конца проснулись и не вполне открыли свои изысканные, пахучие и прекрасные лица.
Татьяна была жаворонком, наверное, поэтому любила ранее утро, его свежесть и ароматы.
– Как дышится, Боже мой, как же хорошо летним, ранним утром дышится! Постою в этой невероятной благодати хотя бы минуточку.
Танечка любила свой дом и всё, что в нём было: сад, огород, её замечательное вышивание, любимые книги. Дом отвечал хозяйке взаимностью: он был всегда каким-то особенно чистым, уютным, добрым, пах пирогами, вареньем, соленьем. Здесь всё время что-нибудь варилось, парилось, пеклось, заготавливалось впрок.
Татьянин дом любили и дети, и внуки. Дому нравилось, когда он наполнялся мужественными мужскими голосами мужа, зятя, нежным голосом дочери, звонкими голосами двух мальчишек – внуков – сорванцов, но сорванцов самых замечательных и самых любимых на всём белом свете.
Этот дом был куплен сравнительно недавно. Ему не было от роду ещё и десяти лет, но Сергей у Татьяны был таким рукастым, что его стараниями в доме уже почти всё было прилажено и подогнано, удобно и практично, красиво и изысканно. Поэтому, наверное, Татьянин дом смотрел как-то гордо и весело на своих менее удачливых соседей. Он как будто говорил:
– Вот он – я! Видите, какой молодец! Это всё благодаря моему замечательному хозяину!
Надо отдать должное, Сергей, действительно, был настоящим дизайнером, художником. Свой дом он назвал «Роза». В соответствии с названием хозяин ненавязчиво подбирал цвета, формы для отделки. Всё в доме, на усадьбе было в розово-сиреневых тонах, округло, благоуханно, достойно, напоминало розу.
Сергей вышел на крылечко. Татьяна стояла, замерев, раскинув руки, закрыв глаза.
– Ты чего это опять?
– Здороваюсь с утром.
– Ну, ну, давай. Голова-то как? Не кружится?
– Спасибо, сегодня немного лучше.
– Иди ляг. Рано ещё, немного поспи.
– Нет, не могу! Я солнце караулю.
– Вот чудачка! Чего же его караулить? Вон оно, без всяких караульщиков взошло!
Татьяна открыла глаза. Да, действительно, огненный край светила поднимался от горизонта. За краткое время всё вокруг переменилось.
Татьяна увидела, что вся трава на недавно стриженном, аккуратном газоне хвалится не только ухоженной, свежей зеленью, но и прекрасной россыпью бриллиантовой росы, сияющей на утреннем солнце. Сероватые краски раннего утра в момент преобразились в яркие и сочные, смелые цвета.
– У Бога всего много. Вот и солнце нам утро дарит, как подарок, – проговорила Татьяна сонным голосом. Она недовольно посмотрела на Сергея:
– Почти тридцать лет вместе, а приучить к порядку так и не смогла. Вот зачем надел фланелевую пижаму, когда такая жара? – думала Татьяна. – Хотя …
– Тут Танечка перестала про себя ворчать и просто рассматривала мужа.
Сергей был хорош собой: высокий, стройный, голубоглазый, блондин, улыбчивый, добрый, любящий, неунывающий и какой-то родной.
– Тебе не жарко в тёплой пижаме? – только – то и спросила Татьяна.
– Нет, мне хорошо.
Сергею везде и всегда было хорошо. Спасибо, Господи, за всё – так любил он говорить. Однако, в этот раз он так почему-то не сказал.
– А что, – подумала Таня, – мужик-то у меня не хуже других, очень даже не хуже.
– Идём завтракать вместе с утром и с подарком, фантазёрка ты моя!
Сергей обнял Татьяну и, приподняв её, как пушинку, переставил через порог внутрь дома. На столе дымился завтрак.
– Вот это диво! Что это с тобой? Чего это ты расстарался? – изумилась Татьяна.
– Танечка, душа моя, мы с тобой едем сегодня смотреть старый дом сестры в Черницыно.
– А, понятно, – твоё наследство.
– Ну, что же делать? Действительно, – моё наследство.
– А нельзя всё-таки от него как-нибудь отказаться, от этого наследства? На усадьбе, там же работы – делать и не переделать. Да и дом, строение, уже лет двести, как построен, ещё при царе Горохе.
– Танечка, там прошло моё детство. Это – память. Это – родное. Бросить никак нельзя. Надеюсь, ты меня понимаешь и поддержишь, не бросишь в трудную минуту. Я бы тебя не бросил, ни за что.
Татьяна замолчала и по принципу «Когда я ем – я глух и нем» ничего больше не говорила.
Сергей тоже терпеливо молчал. Танечка насупилась, как ребёнок, как нахохлившийся воробьишка. А Сергей любил её любой: довольной и недовольной, весёлой и надутой. Просто любил – и всё тут. Татьяна, несмотря на возраст, выглядела, как девочка-подросток: невысокая, фигуристая, миниатюрная, она напоминала фарфоровую, японскую статуэтку. Сергею нравилась эта хрупкость, нежность и даже детскость в облике жены.
– Ладно уж, поеду на твои графские развалины. Только ради тебя. Ты лекарства собрал? Надо всё необходимое взять с собой.
– Сумка ещё с вечера готова, там и твои, и мои лекарства, краски, мольберт.
– Ну, вот, начинается: краски, мольберт. А продукты? Мы же едем на целых два дня!
– Танечка, сумка с продуктами на веранде, тоже готова.
– Что это ты всё собрал, когда я ещё и согласие не давала на поездку?
Татьяне хотелось держать марку и ещё хоть немного посердиться, но глаза уже смеялись, а губы предательски улыбались. Долго на Сергея она сердится не могла, да и сердилась, вообще-то, только для вида.
Сергей смотрел на Татьяну и думал:
– Вот, ведь, бабушка уже, внуки здоровущие, а – всё малое, капризное дитя. Зато какая она у меня! У друзей у всех старушки – кадушки, а моя – хоть на подиум, красотка. Надо сделать ещё один портрет Танечкин, ей будет приятно.
– Ничего, не сердись, – сказал Сергей, пожимая свободную Татьянину руку. Зато я напишу твой портрет на фоне дома. Картина будет называться – «Танечка – декабристка».
– А завтрак вкусно ты приготовил сегодня, прямо-таки постарался, молодец.
– Фирма веников не вяжет, а если и вяжет, – то, как тебе известно, – только фирменные, чтобы нравились тебе.
Сергей смеялся довольным смехом и производил впечатление довольного, счастливого человека. Он вообще всегда всем был доволен: в каждой ситуации, в любом деле он искал и находил положительное. Татьяна же, напротив, всегда старалась заранее увидеть проблему и сразу начать её решать.
– Чего радуется? Там наследство – без слёз, наверное, не взглянешь. Всему сто лет в обед, а, может, и даже больше, рухлядь, поди, сплошная. Как же мне не хочется туда ехать! Вот ни за что бы не поехала, ни за что, еду только ради Сергея.
– Дитя, чистое дитя. Одно слово – художник – бессребреник. Сколько потратим на бензин до Черницыно и обратно? А название деревни – то какое чернокнижное, какое-то подозрительное, – думала Татьяна.
До самой пенсии Татьяна работала главным бухгалтером на хлебзаводе. Она любила и умела считать в отличие от Сергея. Сергей же, по её мнению, не только не любил считать и быть практичным, но и не все цифры, наверное, помнил. Однако, жизнь показала, что на двоих им хватило и одного счетовода.
В крайнем случае, когда Сергей продавал свои картины, и за немалые деньги, то переговоры вела, конечно, Татьяна. Ну а то, что она была бессменным кассиром при этом, так уж это само собой разумеется.
Татьяна не любила родню Сергея потому, что родня Сергея её не приняла. Им казалось, что Сергей, закончив престижный ВУЗ, получив хорошее образование, обладая истинным даром художника, являясь абсолютным красавчиком, должен был жениться на писаной красавице из состоятельной семьи, ровне ему. Когда Сергей привёл на смотрины Татьяну, то все разом сказали, что Татьяна годится только для того, чтобы породу испортить. Сергей же поступил по-своему: он женился на Танечке, потому что лучше неё для него никого и нигде на свете не было. С тех пор Таня и не встречалась ни с кем никогда из родственников мужа. Сам же Сергей иногда навещал родню, но к себе не звал, чтобы не травмировать и не раздражать Татьяну. А вот теперь, как считала Татьяна, она ехала прямо в само логово.
До Черницыно не просто так было добраться: надо было ехать не менее двух часов. Вот и заветный указатель на трассе белыми буквами на голубом, как и положено. Теперь надо сворачивать на просёлочную, грунтовую дорогу неизвестного качества.
– Товарищ барин, асфальта до имения Вашего не наблюдается.
– Да, графиня! Не волнуйтесь, в случае дождя донесу Вас на руках!
– Тогда уж ладно, езжайте, так и быть, по грунтовой. Разрешаю, – засмеялась Татьяна.
– Благодарствуйте за это, барыня! Поклониться в пояс сейчас не могу, поскольку за рулём.
Когда съехали на грунтовую дорогу, то как-то сразу начался лес, настоящий, природный, а не какой-нибудь посаженный человеком, искусственный.
– Вот такие леса и называются дремучими, – думала Татьяна, наблюдая из окна автомобиля за лесными красотами. – Здесь, наверное, и волки, и рыси, и медведи, и дикие кабаны водятся. Вот глухомань – так глухомань!
Лес был сосновый. Сосны стояли одна к одной: высокие, строгие, гордые и недоступные. На фоне голубого неба их верхушки казались узорными и воздушными.
– А воздух! Да, воздух здесь, конечно, замечательный! Только теперь я это почувствовала, – думала Татьяна, – а вот в городе дышим одной пылью и не замечаем, как будто так и надо. Ужасно всё-таки.
Татьяне не хотелось даже думать о том, что она сейчас увидит, приехав в деревню. Она давно заранее решила для себя, что ничего хорошего там быть не может по определению.
Танечка ехала такую даль только ради Сергея, чтобы его поддержать.
– Ну не бросать же этого растяпу в трудную минуту, – думала Татьяна.
Хорошо хоть соседка согласилась присматривать за домом, сказала, что в Танином доме будет жить её взрослая дочь и почтёт за счастье. Так что Татьяну и Сергея отпустили в бессрочное путешествие. Однако, Татьяна про себя решила: только два дня – и не на час больше. Нечего там больше делать.
Танечка первый раз ехала на малую родину мужа. Всё дело было в том, что в доме в Черницыно жила третьеюродная сестра Сергея. На свадьбе Сергея эта сестра, Васса Серафимовна, объявила во всеуслышание, что Татьяна, якобы, первая сноха в их роду из непородистых. После таких характеристик Татьяна, естественно, с Вассой Серафимовной, как и с другими родственниками мужа, всяческое общение прекратила. Сергей ездил в Черницыно, сестру навещал, но всегда гостил один. Правда, привозил из поездки целую коллекцию пейзажей и обязательно портрет сестры, Вассы. К радости и удовлетворению Татьяны, портреты сестры молниеносно расхватывали почему-то, покупали очень быстро, что называется, – влёт. Поэтому ни одного портрета Вассы Серафимовны в доме Татьяны и Сергея, к радости Татьяны, – не было.
– Ещё только этого портрета мне в доме и не хватало, – всегда сердито думала по этому поводу Татьяна.
Деревня оказалась довольно большой: не одна, как в маленьких поселениях, а сразу несколько улиц. Названия улиц Татьяне показались странными – Кузнецкая, Скорняжная, Купцовская.
Видно было, что деревеньке было годков немеряно. Некоторые дома состояли из двух этажей – ярусов: первый, наполовину ушедший от времени в землю, каменный, и верхний – из кругляка, деревянный, не позже начала девятнадцатого века.
– Строения, – думала Татьяна, выглядывая в окно автомобиля, – надо же – стоят и хоть бы что им. Вот как надо строить, можно поучиться. У каждого дома были посажены деревья, цветы, кустарники. У каждого дома вальяжно прогуливались кошки, собаки, гуси, утки, куры.
– Интересно, как же они их, животину свою, не путают? – изумлялась Татьяна, – наверное, все животные и птицы, вся животина, сами бегут домой и знают свой двор.
Все, кто встречался гостям, кланялись приезжим – и молодые, и старые. Мужики снимали шапки, большинство деревенских добродушно и приветливо улыбались.
– Вот тебе и деревня, а добрее городских, – думала Татьяна, – хорошие здесь, видно, люди.
Татьяна не отрывала глаз от окна и всё смотрела на важно и тихо проплывающую мимо деревню.
– Ну, нравится? – спросил Сергей.
– Интересно, – прошептала Татьяна.
Дом Сергея стоял в Золотоносном переулке. По сути дела, других-то домов в этом переулке – тупике и не было.
Когда Татьяна вышла из машины, то удивилась размаху: дом Сергея был двухэтажным, с колоннами и портиком над ними. Наличники вокруг окон были белые, с красивой, затейливой лепниной. Крылечко хоть и вросло частично в землю, но было большое и из белого мрамора. Вокруг дома разлёгся парк. Всё было ухожено, и никакого нигде запустения.
– Какая красота! Как это Вассе Серафимовне удавалось всё содержать в таком идеальном порядке? – изумилась Татьяна. Это же, наверное, недёшево стоит.
– А я и не спрашивал никогда. Она не любила лишних, праздных разговоров и расспросов.
Татьяна прогулялась по парку. Вот где лето-то в полном разгаре и в полной своей красоте!
Парк гордо смотрел настоящим дендрарием. Татьяна читала об этом, но видела -впервые. Каждая часть парка представляла собой не только симметричные аллеи со скульптурами, лестницами, скамейками, беседками, а в миниатюре показывала всё богатство растительности разных широт и территорий. Не было, наверное, таких наименований растений, которые бы тут не высадили так разумно, любовно, изысканно и изящно. Деревьям было много лет, но каждое из них было ухожено и прекрасно. Парк не только создавался, но и обслуживался со знанием дела.
Газонная трава, клумбы изумляли своей изысканностью, а скульптуры – несказанной красотой.
– Что это за цветы на клумбах? Я такие вижу впервые! Надо же, какая роскошь! Какая красота! Вот тебе и деревня!
Ограждение было чугунным, старинной работы, абсолютно исправным. Когда Татьяна дошла до конца парка за домом, то увидела водную гладь. Солнечные лучи отражались в воде, и озеро ассистировало солнцу.
Вода была настолько чистой, что видны были камешки, рыбки. Однако ни одной водоросли нигде не было видно. Облака отражались в воде. Татьяна читала, что в озёрах с чистой водой очень мощные подземные источники. Такие озёра сообщаются с подземными реками.
– Да здесь не просто прилично, а божественно! – завороженно прошептала Татьяна.
– Все эти пейзажи ты же видела на моих картинах.
– Так я думала, что это творческое воображение, что это вымысел.
За забором имения начинался овраг. Он был необычной, воронкообразной формы. Казалось, что астероид, например, упал на землю и пробил её глубоко – глубоко, и сам спрятался на дне оврага.
– Откуда здесь такой огромный провал? – спросила Татьяна, глядя на Сергея снизу вверх и жмурясь на солнце.
– Это не провал. Это мой дедушка и прадедушка добывали золото. А дедушка и прадедушка Вассы были ювелирами. Это был наш семейный бизнес. Я думаю, что Васса так безбедно жила благодаря золотым самородкам. В этом овраге есть тропинки, не зря она по ним весь день напролёт гуляла. Я сам в овраг не заходил никогда, но Васса говорила, что тропинки в нём расположены по спирали и, якобы, гулять там – одно удовольствие, но я что-то сомневаюсь.
– Где же столько самородков в природе набрать? Вон народу-то – целая деревня, да и помимо деревенских могут приехать сколько угодно, город недалеко.
– Никто сюда не придёт и не приедет. Причина одна – в этом овраге пропадают люди. Место здесь, якобы, аномальное. Видели, что, допустим, зашёл человек в овраг. Следом побежали, а его нет нигде, и больше его никто никогда не видел. Этот овраг местные обходят стороной потому, что боятся его, как огня.
Татьяна знала про аномальные места. Она любила такие передачи по телевидению и, наверное, ни одну не пропустила. А уж книг об это прочитала – так уж просто море.
– А как же Васса Серафимовна не боялась там гулять сама? Разве она не могла исчезнуть, как другие? – спросила Татьяна.
– Вот этого я не знаю. Наверное, потому не боялась, что она хозяйка здешних мест. Дом и усадьба ей одной были завещаны, хотя были и другие кандидаты на наследство.
– Молодец всё-таки Васса. Посмотри – какой кругом порядок! А ведь ей на день смерти было сто четыре года. А тебя-то она с чего так возлюбила? На одного тебя завещание оформила. Как это могло быть? – удивлялась Татьяна.
– На одного потому, что так положено. Таково было условие прежних наследодателей. Она становилась наследницей только потому, что должна была выполнить это условие – подписать дом одному из родственников, чтобы не было споров и соблазнов продать.
– Это понятно. А почему всё-таки именно тебе дом – то она отписала? – непременно хотела дойти до истины Таня.
– А вот это уже я не знаю. Думаю, не знает никто, не только я. Да какая теперь разница? Отписала и отписала! Назад дороги нет! Она не любила практичных и жадных. Всегда говорила: не пожелай лишнего, большего не пожелай, последнее потеряешь. Она всегда одаривала своих знакомых, близких, родных подарками. Помню, многих удивляла несовременными рассуждениями. Она, например, говорила:
– Твоё только то, что ты отдал! Достаток, богатство даётся человеку только для того, чтобы он добрые дела творил и делал. Если человек считает, что его деньги принадлежат только ему, – беда ему и горе, разорение. Пусть ждёт впереди неприятности. Когда я спрашивал, – почему, то она отвечала, что, якобы, нарушается баланс. Как это понять – не объясняла, говорила, что мне это пока не надо знать, пока мне это не пригодится, а когда надо будет – сам пойму. Так говорила.
– Ты смотри, философом была, умница, видно, Васса – то твоя была.
– Да, уж, это не отнять, – согласился Сергей.
– А деревенские не в претензии, что к озеру подойти не просто, надо обходить далеко парк и дом?
– Да и к озеру никто из местных, как и в овраг, не ходит. От берега сразу глубина до десяти метров, а на середине сколько – никто и не мерил, попросту, – неизвестно. Вода ледяная даже жарким летом. Кто пытался купаться, говорят, все погибли: воронки какие-то на дне, якобы, затягивают. Озеро называют Гиблое.
– Надо же, а внешне – красота какая! А оказывается тоже – гиблое место, аномальное, обманчива наружность.
– Это называется – не верь глазам своим.
– А как же мы откроем дверь, у нас же нет ключа.
– Ключ есть, он над дверью, он всегда там лежит.
– А вдруг кто-нибудь возьмёт и откроет дом?
– Исключено, дома этого местные тоже боятся, как огня. Все считают, что там живут привидения. Рассказывают друг другу небылицы. Якобы, в окна видно, что прозрачные, голубые фигуры танцуют, медленно проходят мимо окон. Да разве можно верить в это?
– А как ты думаешь, только честно, положа руку на сердце?
– Я ни разу ни одного привидения никогда не видел. Скорее всего, сказки, о старых домах всегда создаются легенды.
– А почему дом не конфисковали после революции? В таком большом доме запросто можно было бы открыть какое-нибудь учреждение, как это в то время часто бывало.
– Не знаю, что и сказать. Наверное, руки не дошли. А, может быть, – глушь, далеко от центра. А, может быть, просто боялись. Местные говорят, что родители Вассы были колдунами, якобы, поэтому их никто никогда не трогал. Однажды мать Вассы сказала односельчанину: чтобы руки у тебя отсохли за твоё воровство. Говорят, с того же дня руки у мужика и вправду стали сохнуть, а потом и действовать перестали. И тогда, и сейчас боялись их все. И дом, и усадьбу далеко обходили стороной на всякий случай.
Татьяна посмотрела на дом вблизи. Да, действительно, ощущение тайны здесь, безусловно, присутствовало. Дом молчал, но казалось, кто-то испытующе и строго смотрел на Татьяну, и от этого чувства она не могла отделаться.
– Что за ребячество? – сказала она себе, – дом как дом, только старинный, достался в наследство. Что тут такого? Достался и достался! Посмотрим, что дальше будет. А дальше будет всё нормально, – успокоила себя Татьяна.
– Ты чего там притихла, мой воробышек? Чего нахохлилась? – Боишься что ли?
– Нет, не боюсь, я тебя слушаю, чего мне бояться, когда я с тобой.
– Молодец! Храбрый воробей мне достался, – засмеялся Сергей и обнял Татьяну.
Новый хозяин без труда открыл дверь ключом, который сам мог быть отдельным экспонатом в музее. Татьяна, немного помешкав, вошла в дом. Всё было в идеальном порядке. Казалось, что Васса Серафимовна где-то здесь и немного запоздала встретить гостей.
Татьяна инстинктивно вжала голову в плечи и стала казаться ещё меньше ростом. Ей показалось вдруг, что сейчас им навстречу выйдет хозяйка этого роскошного дома и скажет Татьяне:
– А ты-то здесь что делаешь, непородистая?
Однако, никто не выходил и ничего подобного не говорил. В доме было тихо, спокойно, но воздух был свежим, как будто только что кто-то специально проветрил все помещения.
Каждая комната имела свой прекрасный цвет, и всё было, конечно, в тон. Мебель красного дерева старинной работы удивляла и радовала глаз. Антикварные вазы, часы, статуэтки и разные другие украшения интерьера были безусловной музейной редкостью.
– Сколько же это всё стоит? Интересно, не выбиты стёкла, не залезли, не своровали. Почему? Это всё-таки странно.
– Ничего странного, сюда и палкой никого не загонишь. Боятся люди, говорят, что себе дороже.
– Вот темнота деревенская! Но, в данном случае, – это нам на руку. Пусть и дальше боятся. А чудаки всё-таки! Если разобраться, это же всё – предрассудки.
– А вот и комната хозяйки, Вассы Серафимовны, – проговорил Сергей. Комната хозяйки больше напоминала кабинет. Она была больше мужская, чем женская: большой письменный стол, книжные шкафы, диваны. Всё, разумеется, старинной, добротной, богатой работы. Само собой – идеальный порядок во всём и везде.
– Люстра, как во дворце съездов в Москве. Чтобы я так жил! – восхитилась Татьяна.
– А вот этот портрет, что на стене, это ты его писал? – спросила Татьяна.
– Какой портрет? Где ты тут видишь портрет?
– Как это какой портрет? Вассы Серафимовны! Вот он.
– Опомнись! Это всего лишь зеркало.
– Да? Что ты говоришь? А я только что в нём видела её лицо – улыбалась, довольная, радостная.
– Танечка, это тебе показалось.
– Может быть, – Татьяна согласилась с Сергеем для приличия, просто для того, чтобы не спорить, но она точно видела лицо Вассы Серафимовны в зеркале. Татьяна вспомнила, что она читала о том, что писатель Набоков, якобы, появляется в зеркалах в своей усадьбе, которая теперь стала литературным музеем.
– Значит, такое бывает. Ну, и чего тут удивляться? Ну, видела в зеркале Вассу. Значит, так надо.
Сергей и Татьяна обошли весь огромный дом, оба этажа и вновь спустились в просторный холл у входной двери.
Кто-то неожиданно постучал в дверь.
– Кто это может быть? – направился ко входной двери Сергей.
На пороге стояла средних лет, красивая деревенская женщина. Она почему-то была одета так, как одеваются активистки – краеведы на этнографических праздниках: по-старинному, но красиво и необычно. Всё в ней было добротно, правильно, чисто и как-то даже – безупречно.
– А мне бы Вассу Серафимовну, – скромно проговорила гостья. – Я ей продукты привезла. Гостья ещё что-то говорила, приветливо улыбаясь, и каждое её слово тоже было необычным. Это был, естественно, русский язык, но какой-то несовременный, старообразный, но красивый. Речь, действительно, была очень приятной своей обстоятельностью и какой-то особой чистотой, избирательностью.
– Да разве Вы не знаете, что она умерла, – сказал Сергей гостье.
– Когда же это она успела? Вы шутите? Васса Серафимовна только что звонила мне! Ну и шуточки же у вас!
– Сколько нужно денег за продукты? – спросил Сергей.
– Нисколько, она оплатила всё заранее, давным-давно, принимайте корзины, шутники, мне пора ехать! Меня ждут!
– А вы из этой деревни? – поинтересовалась Татьяна.
– Нет, я с хутора, он далековато отсюда. Прощевайте вам! На здоровьице, кушайте, всё свежее. До свидания, вам.
Гостья поклонилась и удалилась. У ворот, действительно, её ждала подвода: лошади настоящие, телега запряжённая и настоящий возница.
Сергей и Татьяна молча, заворожённо смотрели в окно, как гостья торопливо, но с достоинством шла по дорожке к повозке, как ловко и привычно запрыгнула на неё, как возница, даже не повернувшись, сразу тронул с места. Лошади были – как с какой-то яркой, исторической картинки, – мощные, ухоженные, сытые, даже, можно сказать, – выхоленные.
– Три лошади в одной повозке. Как на картине. И это в наше время, – глянув снизу на Сергея, проговорила Татьяна, – что это было?
– А я-то откуда знаю. Сам удивлён не меньше твоего, – ошеломлённо ответил Сергей.