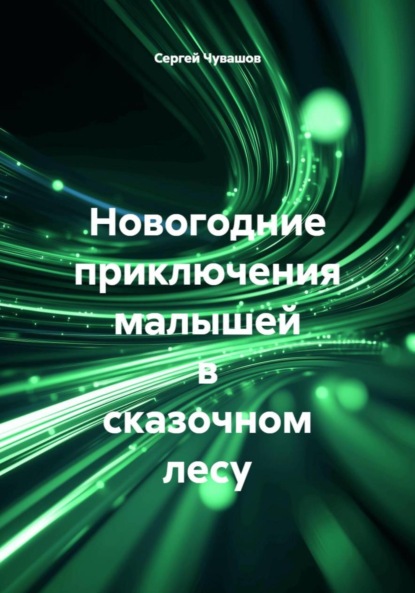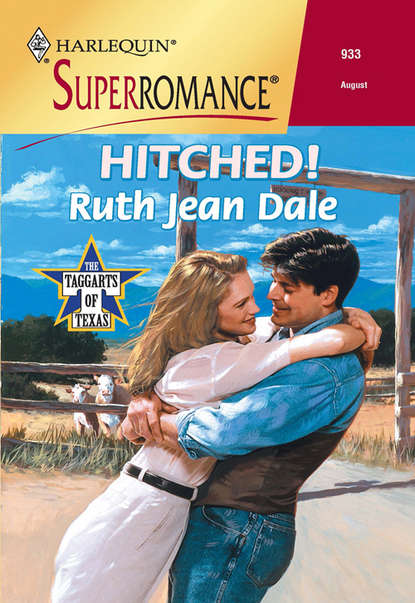Марийкины рассветы. Повести. Дилогия

- -
- 100%
- +
Павлик снял рубашку. Огромного сома тщательно завернули в неё и понесли довольные рыболовы свою добычу, как сумку, за две ручки.
К их радости, удовлетворению и удаче, никто не встретился, не отнял драгоценную добычу. До дома дошли быстро, молча. Только дома, у Марийки на кухне рассмотрели сома: не менее десяти килограмм, истинный богатырь, красавец. Теперь они сами изумлялись – как они добежали с ним до дома, как с пушинкой, вообще не заметив его веса. Как такое могло быть?
Только сейчас они поняли, что весит он много. Осознали, какой он тяжёлый. На столе они вдвоём его еле-еле переворачивали с бока на бок.
– Накормим всех, – как бы между прочим тихо размышлял Пава.
– Конечно, пусть едят, – вторила Марийка, устало вытирая пот со лба.
– Надо не забыть унести кусок рыбины Карповне. Её маленькая внучка говорить ещё не умеет, а пальчиком показывает на открытый ротик – всегда кушать хочет.
Марийка молча кивнула головой и почему-то ничего не сказала, хотя знала, что эта маленькая девочка уже неделю, как умерла.
Павлик, как взрослый, быстро разрезал рыбу, разделил её ровно пополам. Он помог Марийке унести ведро с разделанной рыбой в подвал на ледник, чтобы не испортилась. Марийка боялась подвала и не могла туда идти одна.
– Чудная ты! Ну кто тебя здесь съест? Смотри – никого нет, кругом порядок, ну чего тут бояться? Ну кто тебя здесь тронет? – изумился Павлик.
– Ага, кто! Вот тронет и съест! Боюсь и всё тут! – горячо отвечала Марийка.
– Ну, ладно, – примирительно проговорил Павлик, – надо будет в подвал – меня позовёшь. Пойдём наверх, скоро работники наши явятся, мамы. Наварим им рыбы.
Довольные собой, добытчики принялись за дело, одинаково и одновременно думая:
– Вот – повезло!
Отделённые куски быстро закипали и становились душистыми и аппетитными, немыслимо было дождаться. Так хотелось есть, но всё-таки сварили, дождались, наелись, и это было так прекрасно и радостно.
Поэт
Деревянные заборы в военной Астрахани были все уже давно разобраны. В холодное время каждый обогревался, как мог. Приближалась осень, холода. Поэтому Павлик и Марийка этим утром решили запастись хворостом. Они связывали его в вязанки на одну растопочку и аккуратно складывали в сарае. Пригодится.
Когда похолодает, закрываются все комнаты в доме, кроме одной, где буржуйка и печь. Печь берёт много топлива и выстывает быстро, потому как тяга. А вот буржуйка быстро обогревает, раскаляя свои металлические бока, всё кипятит, парит, варит, жарит, если есть что парить, варить и жарить.
Начинает разгораться огонь в буржуйке робко, медленно. Пламя будто облизывает веточки хвороста, а потом лижет, лижет, да и сожрет ярко и с гулом. Но прежде, чем положить хворост в буржуйку, его надо найти и принести домой.
Для этого лучше пойти чуть за окраину, в сторону посадки. Сухостой обнаруживается легко, даже если на деревьях нет листьев. Он ломкий и лёгкий, потому что сухой.
Обо всём этом думали Марийка и Павлик, пока шли через весь город. Сирена застала врасплох. Как её не жди, как не готовься – всё равно вздрогнешь, растеряешься, опешишь. Почти вместе с сиреной – гул самолётов, разрыв бомб, пулемётные очереди сверху.
Марийка и Павлик, схватившись крепко за руки, чтобы не потеряться, помчались вперёд.
– Ложись! – кто-то кричал им громко и командно.
Но это было абсолютно бесполезно: ноги, которые оба не чувствовали вообще, несли их со скоростью ветра. Правда, куда и зачем – неизвестно. Впереди бежал, прихрамывая, пожилой мужчина. Вдруг его так полоснула осколком, что на глазах ребят он буквально впечатался в стену ближайшего здания, приобрёл абсолютно плоский нечеловеческий вид.
В этот момент кто-то сзади и сверху придавил ребят всей своей тяжестью, они больно ударились о землю газона, собирая ртом траву, ничего не видя, не помня, не понимая от ужаса. Это тяжёлое сверху подхватило их, легко оторвало от земли, куда-то поволокло, не разбирая дороги. Это был патруль, который спас им жизнь. Всё это они поняли, сидя в земляной щели – окопе, которыми была перерезана теперь вся военная Астрахань.
– Ну, что, бегуны, очнулись? – засмеялся спаситель, бравый военный – здоровяк и красавец, – ничего, очухаетесь.
Какое-то время Марийка и Павлик бессмысленно и молча смотрели друг на друга. Потом Марийка многозначительно указала пальцем на место гибели старичка, как немая при этом издавая гортанные звуки.
– Да, – единственное, что мог сказать Павлик. Он взял руки Марийки и прижал их к своим, чтобы не видеть, как они у неё страшно трясутся.
Объявили отбой тревоги. Можно было идти домой. Военные не стали отчитывать ребят за то, что они бежали под бомбами вместо того, чтобы прыгать в ближайший окоп. Ясно всем – бесполезно. Так в опасности ведут себя даже взрослые, не то что дети. Павлик хорошо понимал, что Марийка не в себе и чтобы не пугать её дополнительно повёл подругу другой дорогой, где не видно было разорванного, несчастного старичка. Она ещё долго поворачивалась, оглядывалась, указывала туда рукой, на что Павлик, соглашаясь, всё же настойчиво вёл её домой, не позволяя вернуться и переживать заново весь ужас.
Он следил за тем, чтобы по пути не было пугающих моментов, так как обоим уже более пугаться было некуда. Павлик сам снял с Марийки боты, в которых она всегда ходила за сухостоем, надел на ноги старые, но тёплые шерстяные носки. Марийка молчала и смотрела на него отсутствующим взглядом.
– Неудивительно, – подумал Павлик, – не каждый день такое увидишь, как же её привести в себя?
Решение пришло само собой: Пава сел на корточки напротив Марийки и тихо – тихо спросил её:
– Ты знаешь кто я?
– Да.
– Кто?
– Пава.
– Нет, не только Пава, а поэт.
– Не может быть! Какой поэт?
– А вот смотри!
Павлик стал читать свои стихи, написанные этой ночью, тихо, только для Марийки, но с интонациями настоящего поэта:
Тихо в душе, как утром,
когда небо целует землю.
Главное – не быть обутым,
росу на ноги приемля.
Не зашуметь, не крикнуть,
когда Солнце встаёт над миром.
Молча любить девчонку,
ставшую твоим кумиром.
А если настанет время, когда тишина разбита,
возьми её осколки, чтобы
совсем не была убита.
Спрячь их под свои крылья,
согрей их теплом сердечным.
И опять настанет утро,
когда небо целует землю
и тихо уходит в вечность.
Марийка по-прежнему молчала, но в глазах появилась мысль, что несказанно порадовало Павлика
– Ещё, – почти беззвучно, без голоса, одними губами попросила она.
Павлик замер, закрыл глаза и, как истинный поэт, размеренно и воодушевлённо стал читать стихи. Они были свежи в памяти, так как от роду им было – несколько минут.
Весна души приходит, не спросясь, внезапно,
берёт в охапку каждого из нас.
Даёт нам счастье в меру, поэтапно.
А лучше бы всё разом, как в последний час.
Планировать его нам бесполезно,
оно растёт без плана, как сорняк:
захочет-выскочит подснежник поднебесный,
захочет поле перекатит кое-как.
А всё же жду, оно придёт, посмотришь.
Так тихо, что никто и не поймёт,
что ты плывёшь на лодке,
рядом кормщик, которого никто нигде не ждёт.
Марийка задвигалась. Павлик открыл глаза:
– Понравилось?
Очарование поэзии куда-то улетучилась. Марийка недовольно нахмурилась:
– Пава, а где герои войны?
– Какие герои войны?
– Обыкновенные, которые воюют на фронте.
– Как где? Где им положено, там и есть. Только в этих стихах их нет.
– Тогда ты не настоящий поэт. Настоящие поэты пишут про войну и героев войны.
– Я пойду, – сказал Павлик.
Теперь Пава был абсолютно спокоен: Марийка вошла в норму, если начала критиковать.
– Не обижайся, стихи очень хорошие, но я почему-то думала, что если стихи, то обязательно про героев и про войну. А ты можешь написать про папу Костю, про то, как он воюет?
– Конечно могу.
– Напишешь?
– Напишу, обязательно.
– Молодец, буду ждать, – успокоилась окончательно Марийка. – А ты иди, тебя дома ждут, иди.
– Надо же, Павлик, оказывается, – поэт! А я и не знала, – размышляла Марийка
Пёнька и Князь
Раз в неделю Марийка и Павлик были артистами. Они выступали в госпитале, где работала диетсестрой Марийкина мама Поля. Там она была Пелагея Ивановна.
Утянутая в тонкой талии белым халатом, она казалась совсем юной и какой-то прозрачной. Встречала она ребят всегда одинаково, приговаривая:
– Проходите, проходите, мы вас давно ждём!
Даже в этих обычных словах Павлик почему-то чувствовал, что мама Поля действительно закончила Институт благородных девиц. Когда он видел маму Полю, он всегда думал:
– Да, мама Поля – точно, без всякого сомнения, – благородная девица.
Осеннее утро было довольно свежим. Павлик замер, ловя солнечные лучи лицом и наслаждаясь ими, словно солнечные зайчики, они каким-то невообразимым образом становились точечно жгучими.
Стоило чуть повернуть лицо, и его обдавало прохладой. Артисты в сумках мирно спали, привыкнув за это непростое время решительно ко всему. Павлик не ставил сумки на землю, так как на весу было теплее. В сумке были Пенька и Князь.
Пёнька – добрейшей души, небольшого роста дворовый пёс. Он не только окрасом, мордой, но и нравом был похож на лису. Он любил вся и всех, весь мир и, конечно, главным для него в этом мире был Павлик. Именно Павлик вытащил его корягой из Волги, куда его предусмотрительно поместили сразу после рождения. Правда, вместо благодарности Пёнька иногда, как истинный лис, хитрил. Но это только изредка, иногда.
Князя, серого пушистого кота – аристократа, как и положено, – ленивого и высокомерного, Павлик нашёл в таком же состоянии, почти там же. Но Князь, в отличие от Пеньки, решительным образом не собирался об этом помнить и вёл себя как настоящий Барин, никого не жалея, не желая благодарить ни за что и никогда. Такая уж у него была кошачья натура. Павлик всё равно любил Князя. Что делать – у каждого свой характер.
Кот не просил никогда кушать, потому что знал, что за него это сделает Пёнька. Более того, всегда отдаст ему лучшее. Сейчас он тоже не просил кушать, потому что бесполезное это занятие. Кушать было нечего всем.
После выступлений Пёньку и Князя кормили всегда и в обязательном порядке. Чем же накормят сегодня? В прошлый раз все уплетали борщ. Он дымился, благоухал, был просто великолепен. У Павлика от голода заломило всё внутри. Лучше бы не вспоминал.
Появилась Марийка. В госпиталь она являлась всегда нарядная: густые, волнистые, тёмные волосы прибраны заколкой. Белые туфельки, белые чулки, белое платье превращали её в настоящую артистку. Павлик не наряжался, просто надевал всё чистое – в люди всё же.
На проходной старший солдат – инвалид открыл шлагбаум, приветливо пригласил:
– А, артисты пришли, проходите, проходите, вас ждут.
Маленьких артистов здесь все знали и любили. Мама Поля подхватила ребят:
– Проходите, проходите, мы вас давно ждём! Добрая мама Поля обнимала сразу всех гостей.
И вот уже звучит, казалось бы, на весь госпиталь, божественный Марийкин голос, то тоненький и детский, то глубокий и взрослый. Она поёт о взрослой, настоящей любви, о верности, преданности, доме. Марийкин голос и аплодисменты – они разделялись паузами. Это Марийка подходила и каждому раненому говорила:
– Ты – поправишься! Всё заживёт.
Тем, кто был без сознания, она тоже говорила свои спасительные, добрые слова, но и ещё гладила по руке. Она была свято уверена, что её слышат и понимают, даже без сознания.
Павлик читал стихи собственного сочинения и показывал чудеса дрессировки. Стихи глубоко трогали раненых и часто Павлика спрашивали:
– Неужели сам написал? Ну, ты даёшь! Молодец! Ты просто настоящий поэт!
Особую радость всем доставлял Пёнька, когда по команде Павлика он притворялся мёртвым, раскинув лапы в разные стороны и запрокинув голову. Так живописно он показывал, что ждёт немецкую сволочь. Пёнька поднимал передние лапы вверх, зажмуривался и скулил – так фашисты будут сдаваться по всем фронтам. Потом маленький Пёнька безропотно возил на спине здорового Князя, который передней лапой погонял его. Ещё несколько несложных трюков приводили всех раненых в восторг и умиление.
Благодарные зрители одаривали артистов, чем могли: Марийке и Павлу даже перепадало иногда по кусочку колотого сахара, а Пёньке Князю – по горбушке хлеба. Всё съедалось молниеносно, по законам военного времени – так пояснял Павлик.
Главное, конечно, борщ. Его запах Павлик отличал из тысячи. И вот – четыре миски артистам: две на столе, две под столом. Ели молча и деловито, не отвлекаясь.
Казалось, сил теперь идти домой – просто не собрать, разморило. Павлик и Марийка раскраснелись. Князь и Пёнька скромно спали под столом, довольные своей участью. Громко сказано: раскраснелись. Это Павлик весь пылал румянцем, а вот у Марийки только заалели скулы, да губы стали чуть ярче, а в остальном – по-прежнему: лицо её было мраморно-белое, красивое, самое родное во всём мире и во всей Астрахани, в крайнем случае, – для Павлика.
– Ну, что же, артисты, собирайтесь домой, только Будьте осторожны. Павличек, посмотри, пожалуйста, за Марийкой, – проговорила мама Поля.
– Это обозначало, что праздник закончился, а уходить не хочется.
– Может быть, что-нибудь помочь? – робко спросил Павлик.
– Неужели нет? – громко, не дожидаясь реакции Пелагеи Ивановны заявляла всегда сестра – хозяйка, – марш бинты стирать!
Артисты были согласны и на другую работу, если ещё раз покормят. Марийка в прошлый раз сразу упала в обморок, когда увидела целую кучу бинтов в крови, поэтому в этот раз ребятам доверили только развешивать их.
– Не смотри туда, – предусмотрительно предупредил Павел Марийку. Ну, как же, не смотреть, если нельзя. Это понесли санитары человека, накрытого с головой простынью. Беспомощно и безжизненно висела рука. Её бы Марийка узнала бы из сотен рук: час назад она дала ей кусочек сахара.
Марийка не плакала, но и не разговаривала. Молча дошли домой. Марийка уже не была похожа на артистку – это был нахохленный, сгорбленный, несчастной воробей.
– Пёнька, слушжи,– скомандовал Павлик
Пёнька так старался, что Марийка оттаяла и улыбнулась.
Князь почувствовал себя вне коллектива, отошёл в сторону и наблюдал за всеми отчуждённо и отстранённо, очевидно думая:
– Ну и хочется им кривляться? Если хочется, – пожалуйста, а я нисколько не собираюсь.
На пароходе
Долго собираться не пришлось, потому что билет на пароход, который увозил из голодной, разбомблённой Астрахани на Урал в эвакуацию детей, достали внезапно. Мама Поля собирала Марийку к двум своим сёстрам, Марфе и Олимпиаде, на Урал, плохо понимая, как будет жить без доченьки.
– Как ты там без меня? – эту фразу она повторяла беспрестанно, потому что ни о чём другом думать просто не могла.
Сборы были недолгими ещё и потому, что собирать-то, по сути дела было почти нечего: все вещи и мамы Поли и Марийки давно поменяли на рынке на продукты. За стакан муки последний раз отдали Марийкино зимнее пальто, которое купил в универмаге папа Костя ещё в далёкой, мирной жизни. Марийка так полюбила это пальто, что целый вечер бегала в нём по дому – очень уж понравилось. Правда, поносить – не пришлось.
Ранним утром провожал Марийку на пароход Павлик вместе с Пёнькой. А Князь посчитал, что проводы – дело необязательное. Маму Полю с работы не отпустили: по законам военного времени, госпиталь – режимный объект.
Марийка не хотела уезжать, и, вместе с тем, она понимала, что учиться всё-таки надо, что от недоедания уже опухают ноги, а сил нет совсем, что на месте их дома и вместо дома, в любой момент может оказаться огромная яма. И тогда не будет ничего вообще.
Она знала также, правда со слов мамы Поли, что Уральские тёти, мамины сёстры, очень хорошие и любят, и ждут Марийку, но всё равно очень не хотелось уезжать. Марийка любила маму, Павлика, всё, к чему привыкла и приросла душой в родной Астрахани. Марийка верила, что тёти непременно окажутся хорошими, но маму и Павлика заменить никто не мог.
Павлик понимал, что Марийка не хочет уезжать, да и самому ему жгуче хотелось, чтобы она осталась. Сначала он и сам не знал толком, почему ему так хочется, чтобы эта худая, темноволосая, соседская девочка была рядом. Сначала Павлик думал, что просто привык. Ну, а что, действительно, сколько лет всё время рядом, вместе.
А вот именно сегодня ночью, накануне отъезда Марийки, он, наконец-то понял, что он просто любит эту хрупкую, с тонкими ногами, длинными ступнями, бледную, кудрявую и несуразную девочку. Он понял, что он любит в ней всё: и её беззащитность, и её молчаливость, и её доверчивость, и её доброту, щедрость, заботливость, умение сочувствовать и сопереживать и, особенно, какую-то внутреннюю чистоту. В эвакуации ей будет сытно и безопасно, там ей будет лучше, а это главное. Так уговаривал себя Павлик.
– Конечно, пусть едет! – решил наконец Павлик и только после этого уснул.
Ему казалось, что утро настало сразу после того, как он прикоснулся головой к подушке. Размышлять было некогда, надо было бежать к Марийке. Она его ждёт, волнуется, наверняка переживает обо всём.
–Марийка, – сказал Павлик, – немцы рвутся к Волге. Наш город им непременно надо захватить. Вот сволочи, навязались! Если, не дай-то Бог, город займут, то тебя убьют первую, расстреляют сразу, даже не спросят, как твоя фамилия и как тебя зовут. И так всем всё ясно: они убивают еврейских детей в первую очередь. А ты на вид типичный еврейский ребёнок. Так что – езжай. О маме не беспокойся, я за ней присмотрю. Когда сядешь на пароход, проплывёшь немного и тебе станет грустно, то прочитай вот это. Он подал Марийке свёрнутый конвертиком лист бумаги. Марийка сунула его в карман и сказала послушно:
– Ладно, хорошо, прочитаю.
Она привыкла слушаться Павлика, потому что он лучше знает. Заплакать ей не дал Пёнька: он встал на задние лапы и уморительно стал служить. Невольно ребята рассмеялись.
Трап оказался не где-нибудь, а прямо у Марийкиных ног. Серьёзный, пожилой матрос взял Марийку за руку и деловито сказал:
– Проходи, проходи, девочка, не создавай очередь, видишь, сколько народу много!
– Я не могу, там мой брат, – вдруг очнулась от оцепенения Марийка, – там мой брат Павлик!
– Верю, верю, родная моя, успокойся! Иди себе, иди, сейчас всем трудно, всем нелегко. Кругом одно горе и расставание, на то и – война. Война она и есть война.
Марийка покорно пошла по трапу, оглядываясь на Павлика.
В этот самый момент Павлик понял, что они расстаются навсегда. Он почему-то почувствовал это всем своим существом. Всё его худое от недоедания и подросткового возраста тело билось и страдало. Сам Павлик внутренне удивлялся, как это он ещё жив и стоит на ногах. Павлик улыбался, чтобы не испугать Марийку своим отчаянием, а в горле уже стоял плач и крик, отчаянный и безнадежный.
– Ещё успею дома наплакаться, – подумал Павлик, сохраняя внешнее спокойствие и приличия. Он смотрел на удаляющееся судно до тех пор, пока оно не превратилось в маленькую точку. А из глаз потекли слёзы от напряжения.
– Теперь можно, – разрешил себе Павлик. – Теперь всё можно.
Как наступил вечер, Марийка не помнила. Она очнулась от того, что женщина, сидящая рядом, тормошила её, тревожно заглядывая ей в лицо:
– Девочка, ты живая? – без конца повторяла она одно и то же, легонько потряхивая Марийку за плечи.
– Нет! – ответила Марийка, – потому что у меня нет теперь ни мамы Поли, ни Павлика, ни дома, даже моих зениток теперь нет.
– Успокойся, тут ни у кого ничего теперь нет, а жить всё равно надо. Ты должна жить и дождаться всех, кто тебе дорог.
Жить и дождаться. Снова обнять папу Костю, маму Полю, Павлика, Пёньку и Князя. Эти слова застряли в сознании девочки. Теперь в душе Марийки существовали только они. Только эти слова – жить и дождаться. Да, именно так: жить и дождаться!
А женщине – соседке было не до Марийки – многодетная мама. В отличие от Марийки, её дети не впадали в ступор, а расползались в разные стороны со страшной силой и в прекрасном настроении. Она их постоянно собирала и водворяла на место. Все повторялось снова и снова. Дети были маленькие и ничего толком не понимали. Они и не знали, что такое война.
Марийка и многодетная мать с целой кучей ребятишек сидели на хорошем месте -прислонившись спинами к тёплой в трубе. От воды тянуло прохладой, да и ветерок уже был свежим. Так хоть спина была в тепле.
– Почему пароход не гудит? – подумала Марийка. – Вот молчун какой.
Только она так подумала, как раздался оглушительный гудок прямо надо головой. Привыкнув к зениткам, сиренам, взрывам, Марийка только вздрогнула, немного подпрыгнула от неожиданности и замерла. Соседские же дети, испуганные гудком, разлетелись вокруг, как пули.
– Как же их всё-таки много! – подумала Марийка, – а собирать надо, делать нечего – потеряются.
Когда все были собраны, и Марийка вновь, опираясь спиной о тёплую трубу, закрыла глаза и засунула для тепла руки в карманы, на самом дне самодельного, глубокого, как сумка, кармана нащупала послание Павлика. Тут она вспомнила, что надо раскрыть конверт и прочитать, когда будет грустно и плохо на душе.
– Сейчас мне плохо, очень плохо. Да, теперь мне грустно, очень грустно и даже больше, чем очень грустно. Более того, мне теперь грустно всегда, – безутешно думала Марийка. Она всё-таки развернула Павину бумажку: ну, конечно, – стихи. Марийка слабо улыбалась:
– Поэт ты мой, дорогой ты мой поэт.
Имя её знает ветер,
он зовёт её, шелестя листвой.
Разговаривает только при детях,
а иногда – со мной.
Имя её знает речка.
Она говорит мне о ней:
–Как велит тебе сердечко.
Медленно воду мою пей.
Огонь тоже её имя знает,
потрескивая и шипя,
обгорая дерево тает
оно произносит: “Маша”.
Я это имя тоже знаю.
Оно живёт в душе.
Сердцем, как облаком, таю
только вернись, Марийка, ко мне.
Крепко зажав в кулачок бумажку, засыпая, Марийка с удовольствием думала:
– Кажется Пава влюбился в меня. Надо же, а я раньше за ним этого не замечала. Вот Павлик чудак!
Всю ночь Марийка спала каким-то, как ни странно, счастливым, спокойным и добрым сном. Ей казалось, что всё время голос Павлика шептал ей тихонько, спокойно и по-доброму, ласково: Имя её знает ветер, только вернись ко мне…
Блины
Как добралась до Красногорска, Марийка почти не помнила, потому что спала и плакала всю дорогу или находилась в каком-то забытьи от голода.
Вполне очнулась она уже в доме тёти Марфы, той самой Уральской тётушки, родной сестры мамы Поли.
Несколько человек сидели рядком напротив Марийки и молча смотрели на неё, тихо и не часто переговариваясь:
– Маня похожа на Костю, просто вылитый отец.
– Да нет, что ты, на Польку. Разве не видишь? Вылитая мать!
– Кто эта Маня, которую все так обсуждают? Кто они все сами? – размышляла Марийка, но на всякий случай ничего не говорила, молчала.
Она бы ещё долго была в тумане, если бы не блины. Они стояли на столе прямо напротив Марийки: дымились, главное, – пахли. Ах, как они пахли! Пахли! Да так пахли, что можно было вполне потерять сознание и свалиться под стол.
– Маня, ешь, – пригласила тётушка Марфа, – ешь, дорогая! Вот тебе и чай, и сахар, и маслице.
Тётушка Марфа оказалась совсем не похожей на маму Полю, но всё-таки – такая родная и близкая. Добрая тётушка была такой уютной. Казалось, что Марийка знала её тысячу лет: большая, полная, широколицая, улыбчивая, голубоглазая.
Марийка неожиданно для себя встала, обняла её за шею и приникла к новой родной душе всем своим худеньким, невесомым тельцем:
– Ты меня не выгонишь?
– Я никому, никогда тебя не отдам, деточка моя дорогая, – тихо и от всего доброго сердца прошептала на ухо марийке Марфа.
– Ну, что вы трескался, балда неси скорее полотенце! Видишь дитя плачет! – прикрикнула на толстощёкого и румяного пацана тётушка. Полотенце надо было и ей, потому что и по её лицу в два ручья текли слёзы.
– А ну-ка идите-ка вы все по домам, – неожиданно властно распорядилась тётушка Марфа, обращаясь к своим гостям, сидевшим напротив Марийки. – Дитя с дороги ещё устало, совсем не в себе.
Дом быстро опустел. Марийка теперь только узнала, что правильно её называть Маня, и что блины можно кушать столько, сколько влезет. Причём каждый день. Ей в это во всё совсем не верилось до конца, но тем не менее – это было так.
Марийка с удовольствием отзывалась на имя Маня и не верила своему счастью. Когда Марийка доела пятый блин и уже присматривалась к шестому, тётя Марфа позвала её в спальню: