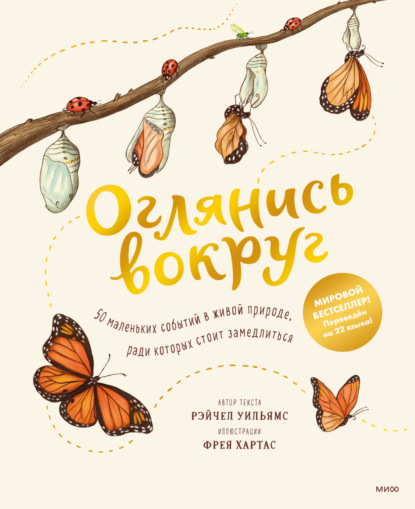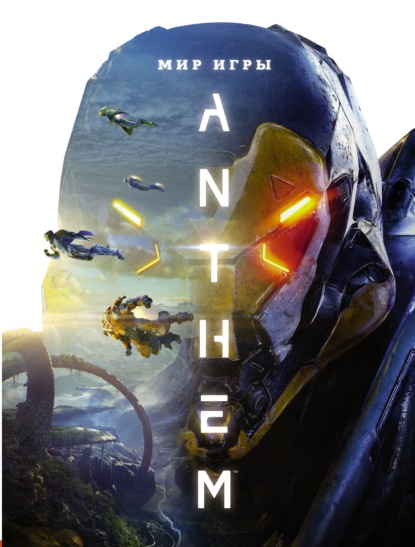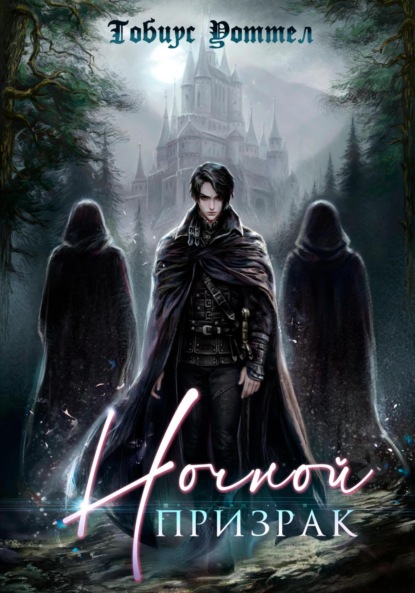Маяки Сахалина
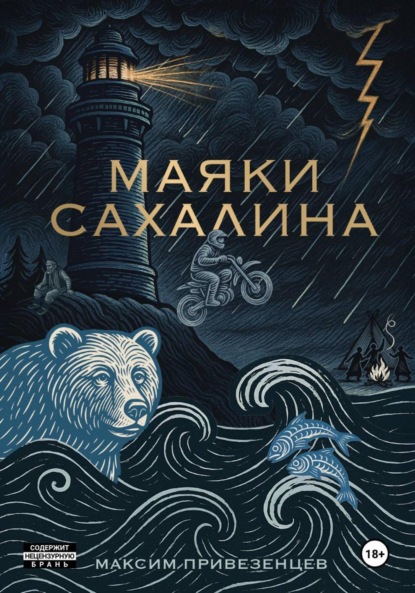
- -
- 100%
- +
– Уберите тело. Работа должна продолжаться.
Василич застыл на камне. Бронислав шевельнул плечом – под робой зашелестела бумага: обрывок письма от брата. Слова стерлись, но чернила пахли ладаном. Он хранил его, как святыню. Не ради смысла – ради памяти.
– Чего застыл?! – рявкнул из-за спины надзиратель. – У тебя руки для работы, а не для отдыха!
Чуть не рухнув, Бронислав продолжил – дрожащими руками, но без паузы.
Минуты текли, как грязь по стене. Время здесь не имело ни начала, ни конца – только удары кирки и хруст костей. Единственным ориентиром был ближайший надзиратель: его дубинка глухо постукивала о стену, задавая ритм. А ещё – его окрик: знак, что смена окончена.
Каторжники падали. Надзиратель добивал их равнодушием. Бронислав всё яснее понимал: здесь человек – лишь расходный материал. Упадёшь – спишут. А на твоё место встанет очередная тень. Очередной преступник останется в шахте навсегда, под грудой камней. Здесь человек держится только тем, что не дал себе упасть.
Постепенно он научился работать так, чтобы не падать от усталости к обеду и не вызывать у надзирателей вопросов. Чтобы выдержать, Пилсудский делил день на простые задачи. Так шахтёр дробит валун – не одним ударом, а сотнями мелких.
Первой задачей было встать с нар.
Потом – умыться, дожить до завтрака, дотянуть до обеда, протянуть до ужина.
Каждая задача включала в себя ещё меньшие: шаг, вдох, глоток. Иногда новые появлялись сами – вырастали из обстоятельств.
Так, за ужином одного дня пришлось решать ещё одну: выковырять червяков из хлеба.
– Ломоть съесть невозможно! – возмутился сосед-каторжанин. – Всё в опарышах!
– Хочешь – ешь. Не хочешь – хлеба не будет, – отрезал надзиратель.
– Пусть породу грызут – всем польза будет, – добавил второй и расхохотался.
Они гоготали. А каторжане, сдерживая рвоту, всё же пытались насытиться гнилой краюхой.
Следующая задача – дойти до своего угла барака, пока желудок не свело в узел.
Пилсудский справлялся. Но у соседей случалось всякое: кто-то травился тем же хлебом, кто-то ссорился и оказывался задушенным в ночи. Бронислав держался в стороне от конфликтов – и потому врагов не нажил, дышал чуть свободнее, насколько позволяла обстановка.
Иногда под утро, до смены, он выходил на снег. Над сопками стояло молчание – неподвижное, как до слов. Ни звука: только тонкий скрип шагов да синева в просветах между деревьями. Небо будто вспоминало, что оно тоже часть жизни, а не крышка над ямой. В этот единственный миг каторга отступала. Не исчезала – просто дышала тише. Как зверь, уставший следить.
И всё же в этой рутине случались неожиданности.
Днём в шахте кто-то шепнул: к ним прибыл новый – огромный, с лицом, будто из глины вылепленным. Никто не знал, откуда он.
После смены, в душном бараке, Пилсудского ждала очередная задача – дойти до своего угла и не поскользнуться в грязи. С весной из дырявой крыши текла вода, земляной пол размокал, и люди часто падали.
К счастью, его место было в «сухом углу». То ли потому, что эту часть барака прикрывали ели и лёд дольше держал крышу, то ли кровля здесь ещё кое-как сдерживала поток. Держась за чужие нары, Бронислав пробирался к своему лежбищу.
Он уже представлял, как опустится на доски и заснёт под аккомпанемент каторги: влажный и сухой кашель, шёпотки, бубнёж охранников за стеной, плеск воды, падающей в лужи. Эти звуки не отпускали даже ночью – будто сам ад решил не даровать им роскоши тишины.
Нары, на которых он ютился, были единственным пространством – крошечным островком свободы, где ещё можно было почувствовать себя человеком. В тот вечер тишина вползла в барак, как хищник.
Добравшись до нар, Пилсудский увидел: на его койке лежало не препятствие – приговор, от которого опускаются руки.
Прогнать огромного спящего нивха в старом, пропахшем рыбьим жиром бушлате – задача, от которой он ощутил не страх, а пустоту. Нивх лежал так, будто знал: его место не обсуждается. Лицо – тёмное, как мокрый речной камень. Тяжёлые веки, широкие скулы. Дыхание – ровное, с лёгким посвистом, будто ветер ищет щель в скале. От него веяло чем-то нерушимым: лесом, тюленьим мясом и тем, что не называют, но чем живут те, кто никогда не формулирует правил. Он лежал так, будто сам Сахалин занял его нары.
Бронислав застыл, как зверь у кромки воды. Внутри – не прыжок, а качание: между яростью, усталостью и пустотой.
Путаясь в сомнениях, он решил, что ошибся пролетом и подошёл к чужим нарам. Но нет – соседи были свои: вон Мишка, ростовский вор-рецидивист, наверху валяется, ногой мотыляет.
– Это кто, не знаешь? – спросил Пилсудский.
Мишка свесился, глянул на нивха, тихо присвистнул:
– Дела… Не, впервые вижу. Чё, будить будешь?
Бронислав пожал плечами. Мишка навис сверху, с азартом наблюдая, как за редким представлением.
В растерянной безрассудности Пилсудский тронул нивха за плечо и резко тряхнул:
– Эй, уважаемый.
Нивх тихо заворчал, но глаз не открыл. Тогда Бронислав потряс его сильнее.
Одно веко приподнялось. Чёрный зрачок, как уголь, словно бездонная яма, недобро уставился на поляка.
– Это мои нары, – сказал Пилсудский. Голос дрогнул, как мокрая верёвка: не порвался, но натянулся до боли.
– И? – усмехнулся нивх, не меняя положения.
Бронислав почувствовал, как закипает злость. После дня боли и унижения он не собирался пасовать перед бугаем.
– Убирайся! – рявкнул он.
Наступила тишина. Десятки глаз уставились на Бронислава и на нивха, занявшего его нары. Теперь пришло время удивить бугая: всем в бараке было ясно – такое обычно не терпят.
Нивх медленно сел, свесил огромные ноги и с каменным лицом уставился на обидчика. Он будто ждал, что Пилсудский опомнится и отступит. Тот колебался, но понимал: шаг назад равен исчезновению. Сорвалось:
– Встал!
Узкие глаза нивха налились яростью. От взгляда у Пилсудского дрогнули колени, во рту пересохло. Он стиснул зубы. Не сдастся. Не отдаст последнее – крошечное место, где ещё можно дышать.
Нивх медленно поднимался, словно выкарабкиваясь из сна.
– Бей! – не выдержал Мишка.
Но Бронислав замешкался. У него не было каторжного навыка – ударить первым в самый уязвимый момент. А это, возможно, был единственный шанс. Нивх выпрямился, и Бронислав почувствовал себя маленьким – будто напротив стояла сопка.
Глядя прямо в глаза, нивх сказал негромко – так, что холод прошёл по коже:
– Повтори.
Пилсудский шумно сглотнул. Дыхание сбилось, пот скользнул по спине. Но он не отступил:
– Это мои нары. Иди на свои.
Нивх склонил голову, затем медленно протянул руку вперёд. Бронислав напрягся, решив, что тот схватит его. Но нивх лишь указал на угол барака, где по стене стекала вода:
– Там моё место. Меняйся.
Сердце Бронислава билось так громко, что казалось – его слышат и за стенами барака. Он понимал: уступи сейчас – потеряешь не нары, а себя. Станешь тенью.
– Не пойдёт, – сказал он глухо. Тише добавил: – Но можем передвинуть твои нары сюда.
Эти слова застали нивха врасплох. Видно, он не подумал о таком простом решении.
Нивх выдохнул, как ветер у моря, и кивнул. Смахнул волосы с глаз и шагнул к своим мокрым нарам. Бронислав последовал за ним, чувствуя, как напряжение спадает, оставляя пустоту и разочарование у соседей, ожидавших кровавой развязки.
Вместе они подняли мокрые нары и потащили деревянную конструкцию на сухое место. Доски скрипели, грязь чавкала, и в этих звуках впервые слышался не страх, а начало – пусть и без слов.
Когда установили нары на новом месте, бугай протянул руку:
– Азрун.
Пилсудский удивился: это было первое слово нивха без нажима, без вызова. Он медленно сжал ладонь:
– Бронислав.
Нивх кивнул ещё раз, улёгся и закрыл глаза. Дыхание стало ровным, глубоким. Бронислав стоял, глядя на нового соседа. «Просто уснул», – подумал он. Как будто всё это не имело значения.
Он тоже лёг на свои отвоёванные доски, и сон сморил его мгновенно.
Утром нивх уже сидел на своём месте, рядом с Пилсудским, молча перебирая в руках кусок ткани или верёвку. Поляк и бугай встретились взглядами – и на миг между ними повисло молчаливое понимание. Нивх не улыбнулся, не произнёс ни слова, но короткий кивок говорил громче слов. Бронислав ответил тем же и поднялся на построение: впереди ждал скудный завтрак и новая смена.
Когда спустились в шахту и снова взялись за кирки, нивх оказался неподалёку. С силой, что казалась нечеловеческой, он легко поднимал тяжёлые камни, освобождая путь другим. Бронислав следил краем глаза и заметил, как нивх тоже смотрит на него: не из любопытства, а чтобы убедиться, не рухнул ли он в этой яме сегодня.
Словно вчерашняя история с нарами связала их невидимой нитью, и теперь оба невольно держались друг за друга. Нивх, вероятно, только прибыл и ещё не успел обзавестись знакомствами, а Брониславу его сосед казался существом иным – плотью от плоти самого Сахалина.
Вечером после ужина Бронислав улёгся на нары и увидел: бугай уже спал мертвецким сном. Вдруг здоровяк показался абсолютно беззащитным. Он не был врагом – но на каторге порой и друзья опасней. Здесь доверие испарялось быстрее, чем воздух в бараке. Любая связь – как трещина в камне: одно неосторожное движение – и всё рушится.
Он присмотрелся. Губы нивха едва шевелились, будто он говорил во сне. От него пахло рыбой и углём. Лицо – грубое, но спокойное; брови слиплись от пота. На виске блестела капля – не то слеза, не то сырость. И вдруг, не просыпаясь, он тихо вздохнул – как зверь, что даже во сне чует взгляд.
За стенами барака разнёсся крик. Голос надзирателя хлестнул по тишине. Бронислав закрыл глаза. Сон накрыл его тьмой, глухой, как шахта.
И в самой глубине этой тьмы впервые вспыхнул белый огонёк. Он был далёк и не спешил приближаться – будто и свету было страшно войти в этот мрак.
Глава 5
Жонкиер. Дуэ
8 сентября 2024 г.
Вправо темною тяжелою массой выдается в море мыс Жонкиер, похожий на крымский Аю-Даг; на вершине его ярко светится маяк, а внизу, в воде, между нами и берегом стоят три остроконечных рифа – «Три брата». И всё в дыму, как в аду…
А. П. Чехов
Александровск-Сахалинский просыпался с запахом рыбы и сырого дерева. Город, некогда называвшийся столицей острова, теперь жил тише: облупившиеся фасады, выцветшие вывески, пустые улицы, по которым ветер гулял свободнее, чем люди. Мы ночевали в отеле-общежитии, единственном «приличном» месте в округе. Его коридоры были длиннее снов, а эхо шагов жило дольше постояльцев.
С утра было ясно: дорога уже внесла поправку. Мы собирались к мысу Жонкиер – почти вовремя, почти в настроении, почти уверенные, что знаем, зачем едем.
В машине сопровождения накануне забыли выключить фары. Мёртвый аккумулятор, возня, замена. Всё по классике экспедиции: здесь приключения приходят раньше света.
– Такими темпами, если хотим увидеть все маяки, придётся заякориться на Сахалине. Месяца на три, – буркнул я, натягивая шлем и глотая раздражение.
– Макс, это дорога. Сам знаешь, – пожал плечами Костя, наш главный по технике и философии терпения.
Занудствовать на Сахалине – последнее дело. Я кивнул с лукавой улыбкой:
– Ладно, поехали. Сегодня один маяк – у нас почти выходной.
Дорога вела к Александровскому тоннелю – узкому ходу, вырубленному каторжниками в каменной глотке мыса Жонкиер. До его появления к маяку пробирались только в отлив: по узкой отмели вдоль скал, крадясь, словно по пасти древнего ящера. Именно сюда, к скале, в 1881 году согнали приговорённых «бурить» берег – кирками и голыми руками.
Полтора века спустя тоннель осел, свод прогнулся, с потолка сыпались камни. Это было скорее воспоминание о дороге, чем дорога.
– Я на разведку, – сказал Костя и нырнул в чёрный зев хода. Вернулся минут через десять:
– Проехать можно. Но осторожно.
Мы завели мотоциклы и въехали в тоннель.
Камень дышал сыростью. Стены холодили запястья даже сквозь перчатки. Свет фар тонул в черноте, будто не хотел тревожить то, что не исчезло, а затаилось.
И вдруг – свет. Резкий, как вскрик. Мы вылетели из тоннеля, как воздух из закупоренной памяти. Он ударил в лицо. Дышать стало легче. Но мысль тянула назад – туда, где шевелилась тьма, где всё ещё стоял запах камня, уставшего быть камнем.
– Сколько здесь горбатилось? – спросил я в пустоту.
– Двести, – ответил Аркан.
Тихо. Без нажима.
Будто знал каждого – по дыханию, по молчанию, по усталости.
– Работали два забоя, – сказал Андрей Цой, останавливая мотоцикл. Голос его был сух, как сыпучий камень. – Долбили навстречу: сто на сто. Но не сошлись. То ли рука дрогнула, то ли «авось» подвёл.
Он замолчал. Только двигатели тихо дышали рядом.
– Управление решило наказать. Двести плетей – виновному.
Но виновного не нашли. И тогда дали по удару каждому. Чтобы не убить, но проучить. Сахалинская арифметика: один не выдержит, а двести по одному – да.
Мы молчали. Даже ветер стих. Костя снял шлем, провёл ладонью по затылку – жест словно случайный, но в нём жила усталость. Не сегодняшняя, а давняя, впитанная.
– Учили командной работе, – хмыкнул он. – В духе времени.
– Всё так, – кивнул Аркан. Медленно, будто повторял не фразу, а шаг. – Одного бы ушатали, а так – по шлепку на брата. Перетерпели. Потом всё переделали сами. Инженера притащили… фамилию не помню.
Он смотрел не на нас, а в склон. В землю. Как будто там, под дерном и глиной, ещё дышали удары. Не даты. Не имена. Только ритм. Только звон железа и медленное «терпи».
– Карл Ландсберг, – сказал я, глядя в ту же точку. – Инженер, купец. Его лавку Чехов навещал, когда был тут. С его помощью тоннель достроили в 1883-м.
Два года. Восемьдесят семь метров.
Если вглядеться в темень, куда день за днём бил человек, становится ясно, почему время на каторге не идёт.
А стоит. Как скала. Как срок.
В бухте за тоннелем нас ждали Три брата, три скалы в полукилометре от берега.
Одно из здешних сказаний говорит: в стародавние времена море выбросило кита. Три брата-нивха из рода Хэнг решили принять этот дар – с простым гастрономическим интересом. Сестра тоже хотела пойти, но мать удержала: по обычаю женщинам нельзя было смотреть на море, пока мужчины добывают пищу. Но запрет оказался слабее любопытства. Сестра пошла следом. Молча. И, как бывает в старых преданиях, братья окаменели – стали скалами. А сестру изгнали. Говорят, с тех пор её дух бродит по склонам: воет в расселинах, кричит в океан – словно предупреждает, что берег рядом.
Некоторые моряки клялись: сперва видели свет маяка, а потом слышали голос. Глухой, гортанный, словно пытающийся вымолить прощение. Особенно любят вспоминать об этом за столом. Когда бутылка клонится к горизонту, и прошлое вдруг кажется правдой больше, чем настоящее.
Напротив Трёх Братьев, на высоком уступе, стоял маяк Жонкиер – тот самый «белый домишко», как сдержанно-презрительно назвал его Чехов в сахалинских записках.
Пока мы смотрели на бухту, картина была ясной и строгой: три скалы торчали из моря, как чёрные лезвия; волны дробились о них в белую пену; чайки кричали, будто спорили с ветром, и этот спор разносился по всей бухте. Воздух был солёный, резкий, словно натянутый канат.
Ветер будто ждал продолжения легенды, и я добавил свою историю:
– Жонкиер многие считают первым русским маяком на Сахалине. Но первый был в Дуэ – в 1860-м, когда начали добычу угля. Деревянный, простой. Прожил недолго. Потом каторжный центр перенесли в Александровский пост, и тот огонь стал бесполезен – с рейда его уже не видели. А в 1884-м тайфун окончательно добрался до башни.
Тогда выбрали Жонкиер. Мыс выдавался в море, был заметен издалека. Свет с него покрывал и Дуэ, и Александровск. Строили год. Весной 1886-го зажгли.
В 1897-м Жонкиера перестроили. А в русско-японскую войну повредили: команду разогнали, смотрителя взяли в плен. Но после Портсмутского мира всё вернули на место – отремонтировали, снова зажгли огонь. Будто маяк выдержал свою собственную осаду.
Потом шли годы. Его латали, меняли оборудование, забывали. Он светил. Молчал. Стоял. Сквозь войны, штормы и равнодушие. Напоминал старого вахтенного – скрипящего суставами, ворчливого, но надёжного.
Он не звал и не жаловался. Просто светил. Но даже каменным старикам приходит срок.
В 1978 году склон бухты Дуэ пополз в море – песок, гравий, равнодушие. Башня треснула, стала клониться, будто потеряла точку опоры. Дом признали непригодным. В 1985-м построили дублёра – низкую металлическую башню с отдельным фонарём.
В 1996-м огонь окончательно перенесли на него. Казалось, история Жонкиера завершена. Старик остался в темноте. Но через четыре года случилось невозможное: наклон остановился. И свет вернули. Пусть ненадолго. Потому что даже время иногда склоняет голову перед тем, кто остался стоять.
Добраться от моря по отвесному склону не смогли даже Костя с Арканом – те, кто по бездорожью ездит, как по автобану. Что уж говорить о нас, московских байкерах, для кого земля чаще асфальтовая, чем живая. Пришлось вернуться к тоннелю.
Теперь его сырая темнота не пугала. Завалы казались знакомыми, брёвна – не врагами. Чёрная полоса шин на камне тянулась впереди, как молчаливое напутствие. Тоннель оказался учителем: сначала пугает, потом показывает дорогу.
Когда вышли на свет, сделали крюк через Александровск-Сахалинский. Пошли к маяку по верхней дороге – старой советской просеке, о которой вряд ли кто вспоминал в последние десятилетия.
Серпантин тянулся между осенних сопок, осыпал листьями, дышал редкой теплотой. Мы ехали молча. Всё выше.
Солнце ложилось на плечи. Пространство раскрывалось медленно. Дорога будто знала: спешить некуда.
На вершине выяснилось: мыс с маяком остался метрах в трёхстах ниже. К нему вела тропа – едва заметная, заросшая бамбуком, мхом и временем. Спуститься – не беда: хоть на байке, хоть на заднице. А вот обратно?..
Раздумывать не дали: Костя с Арканом уже катились вниз. За ними, радостно ревя моторами, без тормозов сорвались москвичи. Я щёлкнул пару кадров, поджал задний тормоз, как будто сомнение, и поехал следом.
С высоты маяк на уступе напоминал гриб – странный, с зеленоватой шляпкой и выцветшей ножкой. Но стоило поравняться с Жонкиером, как всплыл образ шамана-айна: того, кто прожил дольше срока и выстоял там, где другие падали. Потрёпанный, иссушенный, но всё ещё стоящий.
Жонкиер, словно шаман, прошёл сквозь тьму: каторгу, японскую оккупацию, советскую лихорадку, забвение. Он не только светил – он терпел. Теперь же казалось: душа ушла сквозь трещины, похожие на иссохшие ветви старого дерева. Тело осталось. Без дыхания.
Он стоял заколоченный и забытый. Ступени, разошедшиеся со стенами, зияли провалами. В выбитом окне виднелась обвалившаяся крыша. Стены облуплены. Внутри – как после взрыва. Вход в развалины исчез под завалом – балки, кирпич, время.
Через пару лет здесь останется просто курган, поросший травой. Без таблички. Без имени. Только ветер будет гладить склон, как спину того, кто ушёл. Но – странное дело – казалось: Жонкиер уходил иначе. Не как Горянка, не как сломанный. А как исполненный долга.
Он стоял с поднятой головой – как вахтенный, у которого больше нет смены, но он всё равно выходит на мостик. Стоит, потому что был. Потому что светил. Потому что – должен. Он смотрел на преемника – молодого, блестящего, холодного – и будто говорил:
«Продолжай. Я отстоял. Теперь ты».
– В детстве дед привёл меня сюда, – сказал Аркан, не отрывая взгляда от маяка. – Он считал: Жонкиер – плоть от плоти острова. Если ты мужчина, должен здесь побывать.
– А я здесь впервые, – признался я. – В наше детство такие места были за забором.
Аркан усмехнулся уголком губ:
– Значит, сейчас и есть то самое время.
Мы молча бродили вокруг. Грустили о нём и о себе. Море растягивало время, как волну к отливу, – медленно, почти бережно. Четыре часа пролетели, как чайка над скалами: бесшумно, будто их и не было вовсе.
Я отошёл в сторону, сел на камень, обросший лишайником. Ветер коснулся лица – и это уже был не ветер, а ладонь. Осторожная, лёгкая, чужая. В этом касании вдруг отозвалось что-то знакомое. Как радио, внезапно поймавшее волну из другого времени. Тишина держалась, как натянутая струна.
Иногда тени длиннее людей. Иногда – короче. Всё зависит от того, куда падает свет.
И в этот момент свет лёг так, что вытянул из памяти мою собственную историю.
Его звали Алёша Протопопов. Первая любовь моей мамы. Возможно, единственная настоящая. Я никогда не видел его, только слышал. Он был не человеком, а радиоволной, улавливаемой из прошлого.
Он погиб в 1964 году. Пассажирский Ил-18 разбился на подлёте к Южно-Сахалинску. На борту – восемьдесят семь человек. Не выжил никто. В официальной хронике остался список имён. В семейной памяти – молчание и лёгкая дрожь в голосе, когда случайно всплывало его имя.
Мама рассказывала о нём редко. Словно стоит назвать его имя вслух, и память рассыплется.
В детстве я не понимал, почему в нашем доме вечерами бывало так тихо. Словно кто-то не пришёл. Потом понял: тот, кто не пришёл, – и был он. Он не стал моим отцом. Не успел. Его не пустили – не люди, не судьба, а железо, ветер и ошибка высоты.
Иногда маяк – это не тот, кто указывает путь. А тот, чьё отсутствие делает путь возможным. Тот, кто не вошёл в твою жизнь, но определил её своей недостачей. Алёша Протопопов – не мой отец, но, может быть, его отсутствие и есть причина, по которой я здесь: в этой точке, в этой экспедиции, в этом романе.
Если бы он не сел на тот рейс, всё было бы иначе. Другая семья. Другая биография. Другой я. Или не я вовсе.
Мы редко думаем о том, сколько в нашей жизни зависит от тех, кто не дожил. Не сказал. Не успел. Ушёл в небо, не долетев до земли.
Иногда самые сильные маяки – это те, которых никогда не было.
– Было бы неплохо доехать в лагерь к ужину, – негромко напомнил Аркан.
Я поднял глаза: море снова стало просто морем. Без трагедии. Без притяжения. А Жонкиер стоял, как прежде, – заколоченный, но не забытый. Словно знал: его свет сохранился. Пусть не в фонаре, но в тех, кто сумел его увидеть.
Аркан ни на что не намекал, но мы переглянулись – и кивнули. Без слов. Всё уже было ясно.
Чтобы вернуться, нужно было взобраться на вершину сопки. Первые попытки вышли нелепыми: мотоциклы скользили, а мы валились на бок, как кегли в высокой траве. Тогда Костя с Арканом предложили единственный разумный вариант: они поднимутся на наших мотоциклах, а мы заберёмся пешком. Так и пошли. Мы с москвичами запыхались, но дошли. Ждали наверху, ловя дыхание и ветер.
– Мои скиллы всё ещё на уровне «младшей группы», – усмехнулся я, глядя, как Костя ловко втащил мой мотоцикл.
– Погоди, – ответил Аркан. – Через неделю все будете как прорайдеры. Даже ты.
Володя, добравшись последним, присел у валуна, вытер лоб, поднял голову и усмехнулся:
– Ну и подъём.
Он достал телефон, сфотографировал камень. Отметил: был здесь.
Когда операция подъёма завершилась, мы снова двинулись в путь. Около десяти километров вдоль берега – и дорога спустилась в узкую, выдутую ветрами котловину. Здесь, среди травы и камней, когда-то родилось первое русское поселение на Сахалине – Дуэ.
Сюда, между прочим, мечтал попасть сам Наполеон. В экспедицию 1787 года амбициозного корсиканца французский мореплаватель Лаперуз с собой не взял. История умалчивает, обиделся ли Бонапарт.
До прихода Лаперуза село называли просто и утилитарно – «пост на острове Сахалин», а иногда и вовсе – «Сахалинское зимовье». Но великие моряки, как известно, не терпят безымянного. Лаперуз дал ему имя – короткое, звонкое, чужое: Дуэ.
Откуда оно взялось, спорят до сих пор. По одной версии, это городок на севере Франции. По другой – переделанное нивхское «Руи», означающее «водоворот» или «сильное течение». Эта вторая версия звучит правдоподобнее: в этих местах издавна жил род Руи – нивхи, разговаривавшие с морем на своём языке.
На въезде в село нам помахал щуплый старичок. Махал так, будто привык встречать приезжих всю жизнь с тех пор, когда Дуэ был живым поселением.
Мы остановились. Заглушили моторы. Старик прищурился, улыбнулся и спокойно сказал:
– Добро пожаловать в Дуэ. Первую столицу Сахалина.
Пахло от него аптекой и выстиранной ватной курткой. Двигался он мягко, с осторожной плавностью музейного работника – той, что появляется у всех, кто живёт рядом с прошлым. Не тревожит его. Не разгоняет память.
– А Александровск как же? – усмехнулся Аркан, щурясь на солнце.
– Не хочу обидеть уважаемых тамошних, – ответил старик. – Но, как ни крути, всё началось у нас. В 1850-х русские моряки сюда первыми добрались, в уголь вцепились. Пост поставили. Потом – огороды. А там – дорога, жизнь, история. Остров стал просыпаться.