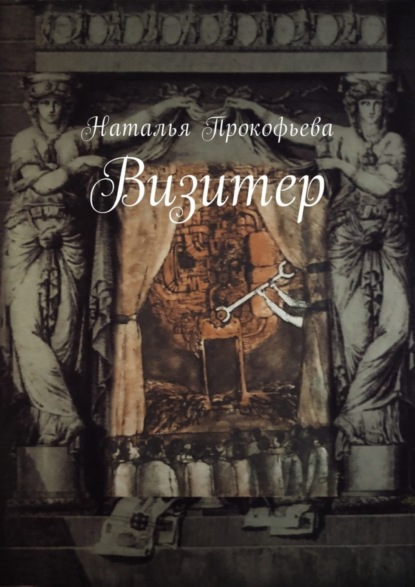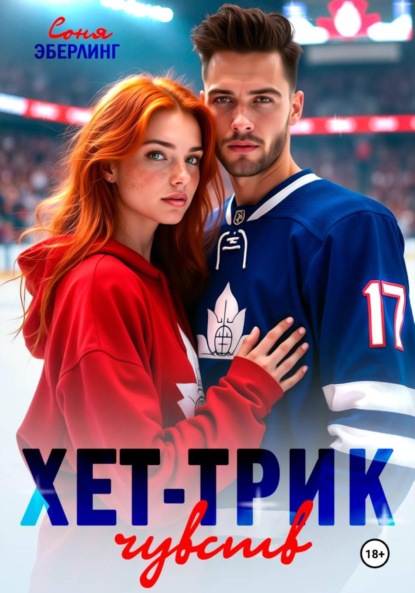- -
- 100%
- +
Но пока появилась только Дашка в полной боевой раскраске. Мы быстро накрыли на стол, и я разлил шампанское по бокалам. Сделав несколько глотков, Дашка отставила бокал. Она постоянно облизывала губы, что было у нее признаком волнения, ее руки с переливающимися всеми цветами радуги ногтями слегка дрожали. Хоть мы и договорились что-то обсудить, но обсуждать, собственно, было нечего, по поводу сегодняшней встречи в театре и предшествовавшего ей звонка все было сказано. Смешно думать, что она может помочь найти спонсора, а про визитера я ей рассказывать не собирался, как, впрочем, и никому другому. Мы молчали. Я долил Дашке шампанского и наполнил свой бокал.
Что-то между нами происходило. Я впервые смотрел на Дашку не только как на забавную девчонку, которая хоть и раздражает порой, но все-таки мне симпатична, а как на влюбленную женщину, которая хочет со мной близости. И женщина эта была достаточно привлекательна, хотя я отдавал себе отчет, что не люблю ее и никогда не полюблю. Но если бы не мысль, что она девственница, и не боязнь последствий, я бы не без удовольствия провел с ней сегодняшнюю ночь.
– Даша, скажи мне честно, у тебя был кто-нибудь?
Дашка густо покраснела и опустила глаза, что совершенно не вязалось с ее обликом королевы провинциальных дискотек.
– Нет.
– Что, у вас в Козельске такие строгие нравы? – наверное, только в глубинке, а, может быть, в одном единственном Козельске в наш развращенный век возможно такое явление, как Дашка.
– Не знаю. Не нравился никто. Был один, женихом считался, но я за него не пойду.
– «Быть девой – быть во власти ночи,
Качаться на морских волнах» – продекламировал я.
– Это ты стихи сочинил?
– Нет, но его тоже Сашей звали. Ладно, давай еще выпьем шампанского, и потанцуем.
У меня слегка кружилась голова. Я чувствовал, что пьянею – сказывалось нервное напряжение сегодняшнего дня.
Я включил первую попавшуюся тихую музыку. Правда, танец наш больше походил на объятия. Меня тянуло на цитаты, и я произнес:
– «Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое, женское».
– Это тоже Саша написал?
– Нет, Володя.
– А…
Дашка была теплой, нежной, влюбленной, ее горячая щека прижималась к моей. Я нашел ее губы, или она нашла мои. Как-то само собой получилось, что, когда музыка закончилась, мы оказались на диване. Через некоторое время я сказал:
– Подожди, я постелю.
Пока я раздвигал и стелил диван, Дашка стояла, отвернувшись к окну. У меня мелькнула мысль, что я делаю то, что делать не надо. Но было уже поздно.
– Иди ко мне.
Она была трогательна в своей невинности и влюбленности, и я старался быть бережным и ласковым. А она, как заклинанье, повторяла мое имя.
Утром я не сразу вспомнил, почему Дашка с блаженной улыбкой на лице спит рядом со мной. Она открыла перепачканные в синей туши глаза, потянулась и произнесла: «супер!», потом, повернувшись ко мне, продолжила свою мысль:
– Улет! Теперь мы поженимся?
«Дура, – подумал я, – если бы ты спросила об этом вчера, ничего бы не было». Но вслух сказал:
– Давай вернемся к этому разговору позже, когда будет поставлена пьеса и выйдет повесть, тогда будет хоть какая-то материальная база. За счет рекламных сценариев я семью не прокормлю.
Дашка вздохнула.
– А мне по барабану материальная база. Я тебя люблю. Но как хочешь, можно и подождать. Саша, а что, если после сегодняшней ночи будет ребенок? Тогда железно придется пожениться, сто пудов.
– Будем надеяться на лучшее, – не выдержал я, – так, чтобы с первого раза редко бывает, – и подумал, что уж теперь, если что-то подобное повториться, я приму все меры предосторожности.
ххх
Выданный Лидией пропуск означал, что я могу приходить в театр в любое время, и грех было этим не воспользоваться, тем более, что на некоторые спектакли не так уж просто было достать билеты, да и экономия при моем нынешнем финансовом положении не была лишней. В течение двух недель я ходил в театр ежевечернее, добросовестно проникаясь его стилистикой. Правда, сидеть приходилось на приставных стульях, но проникаться это не мешало.
Мне удалось попасть на долго ожидаемую всеми поклонниками «Замысла» премьеру новой постановки Гамлета, на которую даже с пропуском нелегко было пробиться. Я пристроился где-то в районе третьего ряда, у самой правой стены, и видел противоположную часть кулис, откуда, по большей части и выходили актеры. Но это не отвлекало, даже интересно было наблюдать секунды, предшествующие выходу на сцену: кто-то торопливо крестился, кто-то, прячась от бдительного ока пожарных, делал последнюю затяжку в кулак, прикрываясь полой плаща, или что-то шептал про себя, зажмурив глаза, актриса, играющая Офелию, торопливо засовывала в рот кусочки шоколада.
Первые сцены прошли безукоризненно. Все ждали появления Призрака. И, наконец, он появился, но не из-за кулис, а откуда-то ниоткуда, словно отделился от темных стен замка. Потянуло могильным холодом. Сцена почти полностью погрузилась во тьму, прожектор высвечивал только заржавелые латы и шлем с перьями. Призрак был высок и величественен, почти на целую голову выше сына. Зал замер. Гамлет в ужасе сделал несколько шагов назад. Выдержав минуту многозначительной паузы, Призрак загробным голосом произнес:
– Три и два – пять, и пять – десять. Сверх того двадцать четвертого легенький клистирчик, подготовительный и мягчительный, – Призрак остановился, понимая, что происходит что-то не то, и, помолчав, неуверенно продолжил, – чтобы размягчить, увлажнить и освежить утробу вашей милости… – Он потерянно замолчал.
Горацио и Марцелл, которым надлежало удалиться, и сам принц замерли и оторопело смотрели на Призрака. Постояв немного, он понуро, тяжелой поступью, отступил за кулисы. Со своего места я видел, что за кулисами происходит какая-то жизнь, и довольно бурная, мелькнуло гневное лицо Замыслова, потом на сцену быстрым шагом вышел некто, тоже высокий и довольно громоздкий, закутанный в черное. Подойдя к Гамлету, он откинул руку в сторону и громко, произнес:
– Ну и времена настали! Даже среди призраков завелись шуты! Не принимай его всерьез, но вверься всей душою и выслушай отца. Я – твой отец.
Тут Гамлет должен был подать реплику, но он не мог произнести ни слова. Повернувшись к публике спиной, он делал вид, что его сотрясают рыдания. К этому времени он уже понял, что произошло. Призрака изображал Василий Петрович Стешкин. Последнее время старый актер стал туговат на ухо и забывал тексты. Специально для него были приобретены миниатюрные радионаушники, и текст он произносил по подсказке. Вообще-то в современном театре суфлер – профессия вымирающая, но Анатолий Петрович демонстративно придерживался традиций. А суфлер в этот вечер попался новый, молодой, и он перепутал страницы в папках с текстами. Поэтому Призрак и повторил за ним монолог из «Мнимого больного», который шел в тот же день на дневном спектакле.
– О, сын, останови рыданья и выслушай несчастного отца, – произнес новый Призрак, на ходу редактируя классика, после чего подошел к Гамлету и что-то тихо сказал ему. По-видимому, сказанное подействовало, Гамлет моментально пришел в себя. Как выяснилось потом, Замыслов, а вышедшего вновь Призрака изображал он, сказал: «Ржать перестань, иль премии лишу!»
Дальше все пошло по Шекспиру в переводе Лозинского. Пастернаковский перевод Замыслов не признавал, считая, что в нем слишком много Пастернака в ущерб автору.
Спектакль был великолепен, но целиком углубиться в происходящее на сцене мне мешала мысль о том, какую роль, желательно с минимальным количеством слов, я могу придумать для старого актера в моей пьесе. Получалось, что никакую. По-видимому, трагикомическая сцена произвела впечатление не только на меня – время от времени в самых неподходящих местах по залу пробегало легкое похохатывание, кто-нибудь нет-нет, да и вспоминал про клистирчик.
Тем временем за кулисами разыгрывалась настоящая драма. Старый актер воспринял произошедшее как знак того, что его время окончательно закончилось и ему надо совсем уходить со сцены, а это было для него равносильно смерти, и, зайдя в гримерную, он упал в кресло и стал умирать. К счастью, помреж, проходя мимо, услышал хриплое дыхание, приоткрыл двери и, поняв, что происходит, вызвал скорую.
Зрители расходились, оживленно обсуждая спектакль и игру артистов, а также эпизод с клистирчиком, некоторые считали его случайной ошибкой, которые нередки на премьерах, другие же утверждали, что это оригинальная придумка режиссера, несущая смысловую нагрузку. Худосочная девица во всем узком и черном толковала в этой связи своему изысканно одетому бритоголовому спутнику что-то про эстетику модернизма, на что он, то ли возражая ей, то ли продолжая ее мысль, восхищался смелостью режиссера, решившегося на внесение в ткань шекспировского текста элементов фарса, что заставляет переосмыслить всю знаменитую трагедию. О том, что происходило за кулисами, никто так и не узнал.
Участники спектакля и гости спустилась в буфет – после премьеры по традиции полагался банкет, и эту традицию ничто не могло нарушить. А я, сам не зная, зачем, зашел в пустую гримерную, откуда недавно увезли Стешкина. В комнате было темно, только из окна падал, отражаясь в зеркалах, голубоватый отсвет уличного фонаря, и в этом неживом, похожем на лунный свете я отчетливо увидел в глубине зеркала лицо старого актера. Мне стало не по себе, и я включил лампу над гримерным столом. Отражение не исчезло, но видоизменилось, как будто через знакомое лицо высветилось другое. Мне показалось, что кто-то стоит у меня за плечами, и я резко обернулся. Прямо напротив зеркала висел большой фотопортрет мужчины, отдаленно напоминавшего Стешкина, такие обычно вешают в фойе. Я присмотрелся. Если забыть про сетку морщин, складки и отечные припухлости, узнавался рисунок губ, разлет бровей. Но глаза – глаза совсем другие, не их я увидел несколько дней назад в буфете. Эти другие глаза улыбались, искрились жизнью, источали энергию. Лицо, с которого сняли маску, надетую временем. Ведущий актер театра, звезда, успех, поклонницы… Несколько часов назад я был свидетелем того, чем все кончается.
Сколько ему здесь? Тридцать? Тридцать пять? Скорее всего, примерно столько, сколько мне сейчас. Фотопортрет сделан, вероятно, лет сорок – пятьдесят назад. Значит, пройдет несколько десятилетий, а может быть, и меньше… а может быть, меня не станет еще раньше, я исчезну, не оставив следа… Золотой песок в часах времени падает только вниз. Но об этом лучше не думать. Это значит только одно – и успех, и слава нужны сейчас, любой ценой, и ничего нельзя откладывать на потом, потому что этого «потом» может не быть.
Мои мысли прервал звук открываемой двери. Я вздрогнул и обернулся. На пороге кто-то стоял. Лампа, включенная над гримерным столом освещала ограниченное пространство, и в дверном проеме угадывалась лишь высокая, темная, неподвижная фигуру. На меня свет падал со спины, и пришелец тоже не мог видеть моего лица. Несколько минут мы молча пытались разглядеть друг друга, пока пришедший не сообразил включить верхний свет. Я с облегчением вздохнул.
– Господи, напугали! – Замыслов смотрел на меня удивленно, как будто даже с упреком. Но через несколько секунд взгляд его смягчился, и он, тяжело вздохнув, прошел широким шагом в угол комнаты, бормоча: «На свете много есть, мой друг Горацио…» и опустился на прогнувшийся под ним старый диван.
– Как Вас сюда занесло?
Я ничего не ответил. Я сам не понимал, как меня сюда занесло.
– Вот так-то, – сказал он, помолчав, и снова тяжело вздохнул. – Да… «Дар напрасный, дар случайный…» – Он посмотрел на портрет. – Вся жизнь прошла в театре. А сегодняшние молодые, даже актеры, ничего о нем не знают, не хотят знать. Для них он просто забавный старик. Насмешничают. Да и за гробом только из приличия пойдут. – Он снова помолчал. – А ведь какой актер был, какой актер! Не было случая, чтобы спектакли с его участием не собирали аншлага. Он немногий из тех, великих, кто еще остался. Сейчас таких уже не делают. Каждый – легенда…
Замыслов и сам как будто постарел лет на десять. Сгорбленные плечи, опущенная голова. А слова, как из старой мелодрамы. Играет? Да нет, пожалуй, искренен. Да и чего ему играть передо мной! Я подумал, что ему осталось намного меньше, чем мне, но и успел он несравненно больше, хотя самому, небось, все равно мало. Наверное, мечтал о столицах, но не сложилось. Мечтал о всемирной славе… А все-таки он несколько банален, но это его суть, а, может, и залог успеха. «Чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло»…
Мне показалось, что в глазах великого режиссера блеснули слезы. Так любил старого актера, или подумал, что недалек тот час, когда и ему возвращаться с ярмарки?
– А Вы идите, Саша, – он впервые назвал меня по имени. – Спасибо, что думали о Василии Петровиче, Вы ведь поэтому сюда пришли. А я посижу еще, повспоминаю дни ушедшие. Да, может быть, и напрасный, и случайный, но все-таки дар…
Вопреки всеобщим опасениям, Стешкин три недели пролежал в больнице с диагнозом «острая сердечная недостаточность», после чего вернулся к своим ролям, убеждаемый окружающими, что он совершенно необходим театру. Суфлер получил выговор и прозвище «Клистирчик». Но Призрака старый актер больше не играл, возможно, из суеверия. На эту роль был назначен Валька, что привело его в полное уныние. Роль эпизодическая, особого актерского мастерства не требует, и Валька счел это наказанием за строптивость. Думаю, на самом деле Замыслов просто затыкал дыру.
Валька ходил мрачный, обиженный на весь мир, и мне было жаль приятеля, наверное, надо было бы объяснить ему открытым текстом, что удача приходит, и то не сразу, к тем, кто талантлив, по собственному опыту знаю. У Вальки были кое-какие способности, но не более того, и если бы он отдавал себе в этом отчет, не было бы всех этих бурь в стакане воды, гораздо лучше, если человек знает свой потолок. Но на душеспасительные беседы у меня не хватало ни сил, ни желания. К тому же я не знал, сколько времени отпустила мне судьба, и сейчас, когда я схватил, наконец, удачу за хвост, я не мог тратить его направо и налево.
ххх
– Как дела? – спросила Лидия, откинувшись в кресле и затягиваясь предложенной мной сигаретой. На столе перед ней лежала моя пьеса, и она время от времени перелистывала страницы, так просматривают обычно хорошо знакомый текст.
– Идут понемногу.
На самом деле я толком ни на какие решительные переделки не мог отважиться, мешала неуверенность в себе. Вероятно, она это понимала.
– Давайте подумаем вместе. Мне кажется, монологи в конце первого и в середине третьего действия можно сократить, многословие ни к чему. Вы уж не сердитесь, Вы вообще несколько многословны. Постарайтесь избавиться от лишнего. И не надо слишком сложных фраз, актерам трудно их запоминать и произносить. А вот в сцене объяснения Ольги и Степана его реплики стоит усилить, пусть настаивает на своем, проявляет мужской характер. Вы ведь таким его видите?
– Да, конечно.
– Саму сцену распишите поподробнее, чтобы было больше действия. Ольга отходит к окну, задумчиво смотрит на закат. Степан близко подходит к ней. Минуту-две он молчит, потом резко поворачивается, и начинается тот самый, все разрешающий разговор. И в других местах тоже. Я кое-где отметила, а то получается слишком статично.
– А зачем это расписывать? Режиссер сам поставит актеров, как считает нужным и скажет, где сделать паузу и как двигаться.
Лидия усмехнулась.
– У режиссера свое видение, свое прочтение. Но это потом. А от Вас он хочет получить готовый продукт. Вы должны увидеть все до мельчайших подробностей. И на самом деле Вы видите, иначе и сюжет не развивался бы, и диалоги не выстраивались. Ну, так и пропишите! И Вы сразу поймете, что лишнее, а что, наоборот, надо прояснить. Я понятно говорю?
– Понятно, но я еще должен подумать. А как быть со Стешкиным? Замыслов просил сочинить роль для него.
– Забудьте про это. Василий Петрович после болезни еще не оправился окончательно, никакая новая роль ему не по силам, и все, в том числе и Анатолий Петрович это понимают. Я думаю, разговора об этом больше не возникнет.
– Вы сняли камень с души.
Лидия улыбнулась:
– Понимаю.
После этого разговора с Лидией я почувствовал освобождение от комплексов. Казалось, легким движением руки она толкнула замершие стрелки, и часы понемногу пошли по предопределенному им кругу. Все вдруг встало на свои места, и в течение двух недель работа была закончена.
Я был благодарен Лидии, но не только поэтому находил предлоги, чтобы заходить к ней. Эта женщина нравилась мне все больше и больше. Но отношения наши за рамки деловых не выходили, и я не видел никакой возможности изменить ситуацию. К тому же я боялся Дашку. Не встречаться в театре мы не могли, но я старался сделать эти встречи как можно более короткими. Дашка смотрела тоскливым взглядом и тяжело вздыхала. Я понимал, что долго так продолжаться не может, что надо объясниться. Но совершенно не представлял, что ей сказать. Ее искренность не вызывала сомнений и обижать ее не хотелось.
Если бы она не была так сильно влюблена и не стремилась за меня замуж, наши отношения могли бы продолжаться не без приятности, пока по обоюдному согласию не сошли бы на нет, такие варианты в моей жизни бывали. Но ее это вряд ли устраивало, а что она нафантазировала, можно было только догадываться. Кончилось тем, что однажды она приехала ко мне вечером без звонка и прямо в дверях, сильно волнуясь и сдерживая слезы, сказала:
– Если ты не хочешь, чтобы мы поженились, то не надо. Но я, блин, так больше не могу.
Мне пришлось утирать слезы и отпаивать ее чаем. Кончилось все тем, что она у меня осталась. После этого мы встречались раз или два в неделю. Она оказалась сообразительнее, чем я думал, и старалась не обременять меня чрезмерной любовью.
Тем временем окончательный вариант пьесы был готов. Прочитав его, Сам заявил, что теперь это ближе к истине, и что он готов приступить к репетициям. Следующая фраза была не столь приятна: «Теперь все дело, – сказал он, – за спонсором».
ххх
Где-то в тумане того непонятного, что называется будущим, затерялся день, когда моя фантазия оживет в свете рамп, и заставит перевоплотиться мужчин и женщин, чтобы рассказать другим мужчинам и женщинам, сидящим в темном зале, придуманную мной историю, и заставить их плакать и смеяться. И это будет день моей победы.
Медных труб я желал. Я жаждал медных труб. Хотел так, как не хотел никогда и ничего. Они звучали в ушах, под аккомпанемент их завываний я выходил на сцену, вызванный восхищенной публикой, и зал взрывался аплодисментами. За этот миг я готов был заплатить любую цену. Но я совершенно не представлял, где бы я мог взять нужную сумму..
…Повернув ключ в замке, я уже в прихожей почувствовал легкий запах хорошего табака. Он сидел на кухне, вальяжно развалясь на угловом диване и курил сигару, стряхивая пепел прямо на пол. Как и в прошлый раз, цилиндр он пристроил рядом с собой, а трость приспособил в углу.
– Извините великодушно, что вот так, без предупреждения. У меня есть основания полагать, что Вы желали встречи со мной.
Я с отвращением посмотрел на нахальный нос. Меня вдруг охватили сомнения, и стало казаться, что я втравливаюсь в какую-то безответственную авантюру с весьма сомнительными, можно даже сказать, непредсказуемыми последствиями.
– Впрочем, если мой визит нежелателен, могу уйти.
– Да нет, сидите, – спохватился я, представив свое отчаянное положение – Но пепел зачем на пол трясти, вон ведь пепельница стоит.
– Ах, да, действительно пепельница, а я и не заметил. Да я так, по свойски, надеялся, извините мою небрежность. Тем более, что у Вас и без того нечисто, и запашок, – он покрутил носом, – небось, мусор давно не выносили. Но если нельзя на пол, то я и в пепельницу могу.
Разговор, как и в прошлый раз, начинал приобретать оттенок бреда. Чтобы вернуть его в реальность, я предложил кофе – все-таки некая материальная субстанция.
– Можно и кофею, можно и что-нибудь покрепче, и шампанского можно. Шампанское даже обязательно, обмоем, так сказать. Но сначала кое-какие формальности.
– Шампанского нет, мы с Дашкой в прошлый раз все выпили.
– Ах, Даша, Дашенька, нежный цветочек! – он насмешливо посмотрел не меня, дразня нахальным носом, – Зачем Вам понадобилась эта дуреха? Хотя, понимаю, молодость, невинность, кожа, как персик, первоцвет, можно сказать. На свежатинку потянуло?
– Заткнитесь!
– Да ладно Вам, хватит нервничать. А шампанское будет, не извольте беспокоиться, шампанское обеспечим. Но сначала о деле.
С этими словами он достал из внутреннего кармана сложенную вдвое бумагу и стал расправлять ее, приговаривая:
– Помялась, вот беда-то! Но ничего, сейчас мы ее разгладим. Вот, так уже лучше! Вы готовы?
– Готов, – сказал я после короткой паузы.
– Ну, и славненько. – Гость повернул бумагу так, чтобы я мог видеть текст. Он изобиловал казенными и канцелярскими словами, смысл которых я уловить не мог. Что-то вроде: «В виду вышеуказанного, а также исходя из оговоренного ниже и ссылаясь на параграф 24 пункт 3 документа от 32.4., рассмотренного при подготовке исходящего, учитывая также постановление №798, стороны вынесли решение о совместном временном владении, предусматривающее нерасторжимость договора без особых обстоятельств, обусловленных пожеланиями сторон». На документе стояла печать районного БТИ.
– Ничего не понимаю, – сказал я, отодвигая бумагу.
– И не надо Вам понимать, все это формальности, а формальности что? Так, одно название. Зачем Вам вникать, Вы человек творческий. Вы подписывайте.
– А печать БТИ откуда?
– Так другой не нашлось. Да и какая разница? Печать всегда печать.
Я вспомнил, сколько я подписывал договоров, даже не читая, в бытность свою в агентстве и как редактор, и как автор, с разных, стало быть, сторон, и хотел уже и этот подмахнуть, но подумал, что те были стандартные, а этот совсем ни на что не похож.
– Но и ситуация не ординарная, – продолжил он мои мысли.
Я вздрогнул. Но, вспомнив, что в документе есть намек на возможность расторжения, подписал.
– И второй экземпляр извольте подписать. Один Вам, другой мне. Так уж положено.
Я подписал и второй.
– Ну и славно, теперь и обмыть можно.
Он подошел к холодильнику, достал бутылку шампанского и тарелки с закусками, чего там утром, когда я уходил, не было.
– Ставьте бокалы. Да не смотрите с таким удивлением, я же обещал шампанское.
После первого бокала я задал вопрос, который давно меня тревожил:
– Скажите, а почему среди такого множества людей Вы выбрали именно меня?
Он ухмыльнулся, прищурившись.
– А почему Вы думаете, что именно Вас? То есть Вас, конечно, но не именно. Таких, как Вы, достаточно набирается.
– А все-таки, по какому признаку выбираете?
– Так все и расскажи. Не люблю события опережать. Время придет, сами догадаетесь.
– А что за договор Вы меня заставили подписать?
– Да не заставлял вовсе. Сами ждали меня, дождаться не могли. Будут у Вас и деньги, и слава, за это и поднимем тост. – Он снова разлил шампанское по бокалам. – Но никому, прошу Вас, а то неприятностей не оберемся. У каждого, знаете ли, своя тайна. Только не сочтите меня сплетником. Вот, к примеру, соседка Ваша, Анна Ивановна. Милая старушка, но не простая, ох, не простая. Колбасы купить просит подешевле 150 грамм, а у самой в комоде, среди старого тряпья, многие тысячи лежат, и все не в рублях.
– Бросьте, откуда у нее деньги!
– Хотите знать? Была у нее сестра двоюродная, в Александрове жила. Лет десять, как померла. Когда заболела, вызвала к себе Анну Ивановну. И сообщила ей, где припрятаны драгоценности старинные, от матушки доставшиеся. Думала, совсем смерть пришла, чтоб в чужие руки не попали. Но видать, не подошел еще ее срок, на поправку пошла. Ну и помогла тут ей Анна Ивановна, травки кое-какой стала в чай подбавлять. Против травки вся ваша медицина бессильна. Как похоронила сестру, часть драгоценностей на деньги поменяла, а часть так оставила. Для кого бережет – непонятно, никого у нее родственников нет, одинешенька на белом свете.
– Сказки рассказываете.
– Не верите, ну и не надо. Вижу, не очень Вам старухины тайны интересны. Но и другие, помоложе и покрасивее тоже скрывают кое-что. Та же Лидия. Ага, вижу, глазки-то загорелись, Лидия больше интереса вызывает. Но не скажу, сами, коли надо, вызнавайте.
– Не любитель я чужих секретов.
– Да полно! Чужие секреты все любят, да только не все признаются. Из чужих секретов при случае и пользу извлечь можно.
Я решил, что пора сменить тему и спросил:
– Послушайте, почему мне кажется, что я Вас где-то видел?
– А может, и вправду видели? – Он хитро улыбнулся.