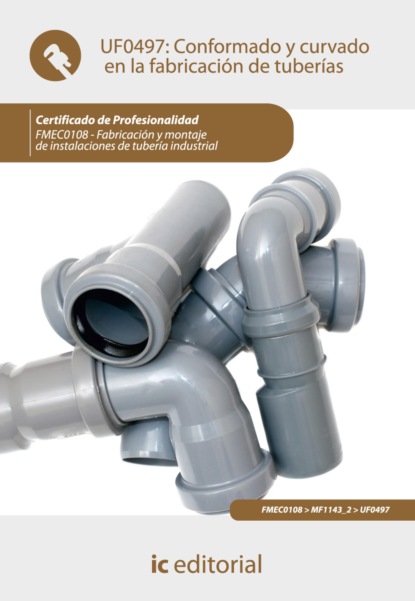Содом и Гоморра
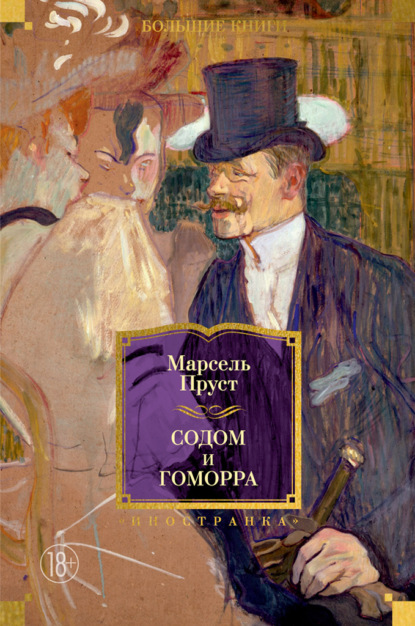
- -
- 100%
- +
Однако пора было решаться. Под деревьями я видел более или менее дружественных дам, но они выглядели как-то по-другому, потому что сейчас они были у принцессы, а не у ее кузины, и сидели не перед тарелками саксонского фарфора, а под ветвями каштана. Элегантность обстановки была ни при чем. Будь здесь все куда менее элегантно, чем у «Орианы», я бы испытывал ту же растерянность. Если у нас в гостиной гаснет электричество и приходится заменить его масляными лампами, нам кажется, что все изменилось. Из нерешительности меня вывела г-жа де Сувре. «Добрый вечер, – сказала она, подходя ко мне. – Давно ли вы виделись с герцогиней Германтской?» Она великолепно умела придать подобным фразам такую интонацию, чтобы вы поняли, что она их произносит не из чистой глупости, как люди, не знающие, о чем говорить, которые в тысячный раз подступают к вам с упоминаниями общих знакомых, подчас весьма отдаленных. Ее взгляд, напротив того, оказался тоненькой путеводной нитью, означавшей: «Не подумайте, что я вас не узнала. Вы тот молодой человек, которого я видела у герцогини Германтской. Прекрасно вас помню». К сожалению, покровительство, простершееся надо мной благодаря этой фразе, на первый взгляд бессмысленной, но по замыслу деликатной, развеялось сразу же, как только я захотел им воспользоваться. Когда требовалось поддержать чью-нибудь просьбу, обращенную к важной персоне, г-жа де Сувре владела искусством предстать перед просителем в роли той самой особы, которая его рекомендует, а высокопоставленному знакомому продемонстрировать, что она и не думает никого рекомендовать; этот двусмысленный жест открывал ей кредит благодарности в глазах просителя, при этом важной персоне она ничем не была обязана. Видя обходительность г-жи де Сувре, я расхрабрился и попросил ее представить меня хозяину дома; она улучила момент, когда его взгляд был обращен в другую сторону, по-матерински обняла меня за плечи и, улыбаясь отвернувшемуся принцу, который не мог нас видеть, подтолкнула меня в его сторону якобы покровительственным, а на самом деле бесполезным жестом, так что я, в сущности, ничуть не приблизился к цели. Вот как малодушны светские люди.
Еще малодушнее оказалась дама, которая подошла ко мне поздороваться и назвала меня по имени. Беседуя с ней, я пытался сообразить, как ее зовут; я прекрасно помнил, что обедал в ее обществе, помнил слова, ею сказанные. Я напрягал внимание, роясь у себя в душе, где пряталось воспоминание о даме, но не находил ее имени. А ведь оно там было. Мысль моя словно заигрывала с ним, пытаясь нащупать его контуры, угадать, с какой буквы оно начинается, а там и уяснить его себе все целиком. Напрасный труд, я почти чувствовал, из чего оно состоит, сколько весит, но вот что до его формы – сличая ее с неведомым пленником, притаившимся в потемках моей души, я признавался себе: «Нет, не то». В уме я, конечно, мог создать самые замысловатые имена. К сожалению, нужно было не создать, а воспроизвести. Всякое умственное действие легко, если оно не подчинено реальности. Сейчас мне нужно было ей подчиниться. Наконец имя явилось все целиком: «Госпожа д’Арпажон»[48]. Говоря, что оно явилось, я не прав: оно не предстало передо мной каким-то рывком. Не думаю также, что легкий рой воспоминаний, связанных с этой дамой, к которым я беспрестанно обращался за помощью (заклиная их: «Ну же, эта самая дама дружит с госпожой де Сувре, она так наивно восхищается Виктором Гюго и в то же время боится его и даже испытывает перед ним ужас»), не думаю, что все эти воспоминания, порхая от ее имени ко мне и обратно, в какой бы то ни было мере помогли поднять его со дна моей души. В этой великой игре в прятки, разыгрывающейся у нас в памяти, пока мы пытаемся припомнить чье-нибудь имя, не происходит никакого постепенного приближения. Не видишь ничего – и вдруг всплывает точное имя, совершенно не такое, как нам казалось, пока мы ломали себе голову. Это не оно к нам пришло. Нет, скорее, думается мне, по мере того как мы проживаем нашу жизнь, мы все дальше удаляемся от той зоны, где отчетливо помним такое-то имя, и только напряжением воли и внимания, усиливающих зоркость моего внутреннего зрения, я сумел пронзить полумрак и ясно его увидеть. В любом случае, если и существуют переходы от забвения к воспоминанию, то переходы эти бессознательны. Ведь все промежуточные имена, через которые мы проходим, ошибочны и ничуть не приближают нас к предмету наших поисков. Это, собственно говоря, и не имена вовсе, а часто просто какие-то согласные звуки, отсутствующие в правильном имени. Впрочем, эта работа ума, проходящего от пустоты к реальности, так таинственна, что, в сущности, эти неправильные согласные могут оказаться подготовкой, жердочками, которые кто-то неловко протягивает нам, помогая уцепиться за верное имя. «Все это, – скажет читатель, – ничего не говорит нам о недостатке услужливости со стороны этой дамы; но раз уж вы так надолго застряли, позвольте, господин автор, задержать вас еще на минуту и заметить вам, как досадно, что при вашей-то молодости (или, если это не вы, при молодости вашего героя) вы уже так беспамятны, что не в силах вспомнить имя дамы, которую прекрасно знаете». Ваша правда, господин читатель, это весьма досадно. И даже печальней, чем вы думаете, если распознать в такой забывчивости предвестье времен, когда имена и слова начнут исчезать из ясной зоны мысли и придется навсегда отказаться называть самому себе тех, кого знал лучше некуда. В самом деле досадно, что смолоду приходится проделывать столь тяжкий труд, чтобы припомнить хорошо знакомое имя. Но если бы эта немощь затрагивала только слегка знакомые имена, которые забывать вполне естественно, а на припоминание их жаль тратить усилия, тогда в ней таились бы даже некоторые преимущества. «Ради бога, какие?» Ну, дорогой мой, ведь благодаря этой напасти мы замечаем и учимся разлагать на составные части те механизмы, которых иначе бы не заметили. Кто каждый вечер колодой падает в кровать и не оживает, пока не проснется и не встанет с постели, тот разве способен когда-нибудь совершить великие открытия или хотя бы мелкие наблюдения в области сна? Он едва ли замечает, что спит. Чтобы оценить сон, чтобы пролить луч света в эту тьму, пригодится немного бессонницы. Безотказная память не слишком-то побуждает нас изучать феномен памяти. «Так госпожа д’Арпажон представила вас принцу?» – Нет, но замолчите и дайте мне рассказать, что было дальше.
Г-жа д’Арпажон оказалась еще трусливее, чем г-жа де Сувре, но ее трусость была простительней. Она знала, что всегда имела в обществе мало влияния. Это влияние еще больше ослабело из-за ее связи с герцогом Германтским, а когда он ее бросил, это нанесло ей последний удар. Когда я попросил ее представить меня принцу, у нее испортилось настроение и она замолчала, по наивности полагая, будто притворилась, что не услышала моих слов. Она даже не заметила, что в ярости насупила брови. А может быть, наоборот, заметила, но не придала значения этому противоречию и воспользовалась им, чтобы без лишней грубости дать мне урок скромности – безмолвный, но от того не менее красноречивый.
Впрочем, г-жа д’Арпажон была сильно раздосадована; множество взглядов устремилось вверх на ренессансный балкон, угол которого, где в ту эпоху часто красовались монументальные статуи, был занят склоненной фигурой великолепной герцогини де Сюржи-ле-Дюк, не менее скульптурной, чем любая статуя; она недавно сменила г-жу д’Арпажон в сердце Базена Германтского. Под легким белым тюлем, защищавшим ее от ночной прохлады, угадывалось гибкое порывистое тело богини Победы. Мне оставалось только прибегнуть к помощи г-на де Шарлюса, который уже вернулся в нижний зал, открывавшийся в сад. Барон притворялся, будто поглощен партией в вист: он делал вид, что играет, чтобы незаметно было, что он разглядывает гостей, и у меня было сколько угодно времени, чтобы оценить умышленную и артистическую простоту его фрака, который благодаря неуловимым ухищрениям несравненного портного напоминал «Гармонию в черном и белом» Уистлера[49], вернее, в черном, белом и красном, потому что поверх жабо, видневшегося из-под фрака, г-н де Шарлюс носил на широкой черной ленте красно-белый эмалевый крест кавалера Мальтийского ордена[50]. В этот момент партию барона прервала г-жа де Галлардон, которая вела с собой племянника, юного виконта де Курвуазье, с лицом красивым и наглым: «Кузен, – произнесла г-жа де Галлардон, – позвольте представить вам моего племянника Адальбера. Ты понял, Адальбер, это знаменитый дядя Паламед, о котором ты постоянно слышишь». – «Добрый вечер, госпожа де Галлардон, – отозвался г-н де Шарлюс. И хмуро, тоном настолько вызывающе невежливым, что всех это поразило, добавил, даже не взглянув на молодого человека: – Здравствуйте, месье». Быть может, г-н де Шарлюс знал, что его нравственность вызывает у г-жи де Галлардон подозрения и, видя, что она не устояла перед удовольствием лишний раз на это намекнуть, захотел пресечь все, что бы ей вздумалось наплести, если бы он обласкал ее племянника, а заодно уж недвусмысленно продемонстрировать свое равнодушие к молодым людям; быть может, он счел, что вышеупомянутый Адальбер без должной почтительности отнесся к словам тетки; быть может, он собирался позже подцепить столь миловидного родственника на крючок и теперь заранее на него напал, обеспечивая себе грядущий перевес, подобно монарху, который прежде, чем предпринять дипломатические меры, предваряет их военными действиями.
Добиться от г-на де Шарлюса согласия представить меня хозяину дома оказалось легче, чем я думал. С одной стороны, последние двадцать лет этот Дон Кихот сражался со столькими ветряными мельницами (часто это были родственники, которые, на его взгляд, дурно с ним обошлись), так часто запрещал тем или иным Германтам приглашать того или иного гостя, «которого недопустимо принимать у себя», что родственники уже опасались перессориться со всеми, кто был им дорог, и до самой смерти лишиться общения с новыми лицами, вызывавшими у них живой интерес, под страхом навлечь на себя громокипящий, но необъяснимый гнев шурина или кузена, требовавшего, чтобы ради него отринули жену, брата или детей. Г-н де Шарлюс был умнее прочих Германтов и догадывался, что теперь уже его запреты принимались в расчет от силы в одном случае из двух; опасаясь, что в конце концов родные откажутся от него самого, он пошел на некоторые жертвы и начал, так сказать, снижать требования. К тому же у него был дар месяцами, годами злобствовать на ненавистного человека, запрещая звать его в гости, и ради этого он готов был сцепиться с кем угодно, как какой-нибудь носильщик с царицей[51], не разбирая, что собой представляет его противник; зато вспышкам гнева он предавался так часто, что они просто не могли затянуться надолго. Даже один, у себя дома, читая письмо, показавшееся ему непочтительным, или вспоминая пересказанные ему слова, он рычал: «Болван, мерзкая дрянь! Ты еще свое получишь, метлой тебя да в канаву, беда только, что ты оттуда будешь город отравлять своей вонью». Затем новая вспышка ярости на другого болвана гасила предыдущую, и как только провинившийся проявлял хоть немного почтения, гнев барона испарялся, не успев создать почву для прочной ненависти. Так что, возможно, он и согласился бы представить меня принцу, хоть и был на меня сердит, но я, на беду, вздумал добавить из щепетильности, опасаясь, как бы он не заподозрил, что я бестактно явился в гости ни с того ни с сего, рассчитывая, что смогу остаться благодаря ему: «Знаете, я ведь прекрасно с ними знаком, принцесса была со мной очень любезна». – «Ну, если вы с ними знакомы, зачем вам нужно, чтобы я вас представил?» – отрезал он и, отвернувшись от меня, вернулся к своей партии с папским нунцием, германским послом и еще одним незнакомым мне человеком.
Тут из садовых недр, где когда-то по приказу герцога д’Эгийона разводили редкостных зверей, через широко распахнутые ворота донеслось до меня сопение, будто кто-то принюхивался к изысканной толпе, не желая упустить ни одной мелочи. Шум приближался, я на всякий случай пошел ему навстречу, пока на ухо мне не прошелестели слова «добрый вечер», произнесенные г-ном де Бреоте, – не как скрежещущий зазубренный визг ножа по точильному камню, не как хруст, с каким молодой кабан топчет посевы, а как голос, несущий надежду на спасение. Не такой могущественный, как г-жа де Сувре, но и совсем не такой неуслужливый, как она, он состоял в гораздо более простых и сердечных отношениях с принцем, чем г-жа д’Арпажон, и, возможно, питал иллюзии насчет моего положения в кругу Германтов, а может быть, знал об этом больше, чем я, и все же в первые секунды мне оказалось не так легко привлечь его внимание: обонятельные реснички у него в носу трепетали, ноздри раздувались, он озирался по сторонам, с любопытством тараща свой монокль, словно очутился перед пятью сотнями гениальных картин. Но, услышав мою просьбу, он охотно ее принял, отвел меня к принцу и представил ему с огромным аппетитом, церемонно и по-свойски, словно передавал блюдо с птифурами и советовал угоститься. Насколько герцог Германтский, принимая гостя, обходился с ним, когда того хотел, любезно, по-товарищески, сердечно и запросто, настолько же обхождение принца оказалось чопорным, церемонным, высокомерным. Он едва улыбнулся, строго обратился ко мне «месье». Я часто слышал, как герцог насмехается над спесью своего кузена. Но по первым же его словам, обращенным ко мне, таких холодных и серьезных в отличие от языка Базена, я сразу понял, что именно герцог, с первого визита общавшийся с вами «на короткой ноге», глубоко презирал окружающих, а истинной простотой из двух кузенов был наделен как раз принц. В его сдержанности мне виделось сознание не то чтобы равенства, этого он себе и вообразить не мог, но по крайней мере уважения, которое он питал к низшим: такое отношение можно встретить в любом обществе, пронизанном незыблемой иерархией, например, в суде или на факультете, где генеральный прокурор или декан, сознавая свою высокую должность, при всем достоинстве хранят, быть может, больше настоящей простоты, а когда узнаешь их ближе, то и доброты, истинной простоты и сердечности, чем люди более современные, вечно с шуткой на устах и со всеми на дружеской ноге. «Думаете ли вы продолжать дело вашего отца?» – спросил он у меня со сдержанным интересом. Понимая, что спрашивает он из любезности, я ответил в немногих словах и удалился, не мешая ему приветствовать прибывающих гостей.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Шекспир, «Как вам это понравится», акт II, сцена VII, пер. Т. Щепкиной-Куперник.
2
Николай Гумилев, «Театр» (1910).
3
И жены… Содом. – Строки из стихотворения Альфреда де Виньи «Гнев Самсона» (1839) в пер. О. Чюминой. Французский комментатор указывает, что Виньи писал это стихотворение под впечатлением от недавнего разрыва с актрисой Мари Дорваль; по выражению Пруста («О Бодлере», 1921 г.), поэт воплотил в Самсоне самого себя, Виньи, и именно дружба мадам Дорваль с некоторыми женщинами вызвала к жизни слова, которые Пруст взял эпиграфом к «Содому и Гоморре».
4
…прибытия насекомого… – …цветок, что заметно вырвался за ее пределы. – См. «Разум цветов» Мориса Метерлинка (1907 г.; пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, гл. XI) и особенно «Опыление орхидеи» Дарвина (фр. пер. 1870; рус. пер.: собр. соч. в 9 т., т. 6, 1950). Пруст постоянно пользовался этими книгами, работая над «Содомом и Гоморрой».
5
…за событиями Англо-бурской войны… – Англо-бурская война (1899–1902) – война Великобритании против двух республик Южной Африки, населенных колонистами родом из Голландии, – Оранжевого свободного государства и Трансвааля, закончившаяся победой англичан и превращением обеих республик в английские колонии.
6
…я несколько раз… во время дела Дрейфуса… – В декабре 1894 г. офицер французской армии Альфред Дрейфус (1859–1935) был несправедливо обвинен в шпионаже в пользу Германии и приговорен к разжалованию и пожизненной ссылке. Французские интеллектуалы того времени, в том числе Эмиль Золя, Анатоль Франс, Жорж Клемансо и молодой Марсель Пруст, стали требовать пересмотра дела и в конце концов в 1906 г. добились окончательного оправдания Дрейфуса. Пруст и сам однажды дрался на дуэли во времена дела Дрейфуса (1896–1906), а именно в 1897 г., хотя повод для поединка не имел отношения к этому делу: он вызвал критика Жана Лоррена, опубликовавшего оскорбительную рецензию на его первую книгу «Радости и дни».
7
«Золотая легенда» – сборник средневековых легенд и житий святых, который составил в XIII в. Джакопо да Варацце (Иаков из Ворагина). Однако историй о том, как мужчина рожал дитя, там нет. Пруст, по всей вероятности, опирается на книгу Эмиля Маля «Религиозное искусство XIII века во Франции» (1898), которую брал у друзей, использовал для своих статей о Рёскине и прекрасно знал; говоря о влиянии Джакопо да Варацце на средневековую иконографию, Маль упоминает рассказ о Нероне, который во что бы то ни стало желал, чтобы его возлюбленный родил ему ребенка, и требовал от докторов, чтобы они изыскали для этого средство. Если верить легенде, в результате угроз Нерона и усилий медицины на свет появилась… лягушка.
8
Я иногда как калиф, который бродил по Багдаду под видом простого купца… – Это одна из многочисленных ссылок на сборник арабских сказок «Тысяча и одна ночь», рассеянных по роману Пруста. Так, в сказке «Рассказ о носильщике и трех девушках» читаем: «…в эту ночь халиф Харун аль-Рашид вышел пройтись и послушать, не произошло ли чего-нибудь нового, вместе со своим визирем… (а халиф имел обычай переодеваться в одежды купцов)» (пер. М. Салье).
9
…торчал Орлеанский собор… – Собор Святого Креста в Орлеане довольно поздний, он строился с XVII по XIX в. Возможно, г-н де Шарлюс разделяет распространенное в его время мнение, что этот собор в стиле «пламенеющей готики» выглядит неуместно старомодным; вот и Виктор Гюго высказался о нем неодобрительно: «Эта безобразная церковь в Орлеане издали так много обещает, а вблизи нарушает все свои обещания» («Рейн, письма к другу», 1842).
10
Я вышел в Обре́… дом Дианы де Пуатье. – Городок Флери-лез-Обре расположен в трех километрах от Орлеана. Дом Дианы де Пуатье на самом деле – это особняк Кабю, прекрасный образчик Ренессанса, в котором затем находился исторический музей Орлеана, уничтоженный пожаром в 1940 г.; вопреки легенде, он не имеет отношения к Диане де Пуатье (1499–1566), любовнице Генриха II и ярой гонительнице гугенотов.
11
У меня в роду три папы. – Вопрос о трех папах изучен французским исследователем Вилли Аше в отдельной статье; г-н де Шарлюс через герцогов Бульонских состоял в родстве с семейством Медичи, то есть с Львом X (был папой в 1513–1521), Клементом VII (1523–1534) и Львом XI (1605).
12
Даже Одиссей поначалу не узнал Афину. – К Одиссею, достигшему пределов Итаки, приходит его покровительница богиня Афина, «…образ приняв пастуха, за овечьим ходящего стадом, / юного, нежной красою подобного царскому сыну» («Одиссея», песнь XIII, перев. В. Жуковского), и Одиссей обращается к ней за помощью, но не узнаёт ее.
13
…у того поэта, которого вчера славили… и негде ему голову преклонить. – По-видимому, имеется в виду Оскар Уайльд (1856–1900), который в 1895 году попал под суд и в тюрьму за нарушение норм общественной морали. После тюрьмы Уайльду пришлось уехать во Францию, последние годы он жил в бедности и одиночестве.
14
Непримиренными два пола встретят смерть… – Строка из того самого стихотворения Альфреда де Виньи «Гнев Самсона», строки которого Пруст взял эпиграфом ко всему тому.
15
«Союз левых» был создан по требованию консерваторов в итоге выборов в законодательное собрание еще в 1885 г. «Социалистическая федерация Луары», созданная между 1911 и 1914 г., стала прообразом республиканской социалистической партии.
16
…«Мендельсоновское музыкальное общество» от «Скола канторум»… – Основанная в 1894 г., «Скола канторум» была поначалу обществом религиозной музыки, посвященным изучению музыкальных форм прошлого; это общество затем, в 1896 г., было преобразовано в престижную консерваторию, где, в частности, учились Артюр Онеггер, Эрик Сати, Эдгар Варез. С 1897 по 1931 г. там преподавал, а затем и возглавлял это учебное заведение композитор Венсан д’Энди, ярый антисемит, а Мендельсон, чьим именем называлось первое упомянутое общество, был евреем; возможно, в этом и состоит главное различие между двумя музыкальными объединениями.
17
…или начинают делать покупки у Потена. – Между прочим, в магазине Феликса Потена на бульваре Мальзерб, 45–47, делала покупки Селеста Альбаре, секретарша, сиделка и домоправительница Пруста. Потен привлекал покупателей снижением цен на некоторые основные продукты, компенсируя это за счет стоимости более изысканных товаров. Кроме магазинов, у Потена была собственная фабрика, сети поставок и большие склады – эти нововведения положили начало принципам работы нынешних крупных супермаркетов.
18
…юная женщина, девушка, Галатея… – По мнению французских исследователей, Пруст имеет в виду нереиду Галатею, которую, согласно древнегреческой мифологии, полюбил циклоп Полифем; этот образ, скорее всего, подсказала писателю картина его любимого художника Гюстава Моро «Галатея» (1880), на которой прекрасная нереида сладко спит под угрюмым взглядом мрачного циклопа.
19
…так вьюнок выбрасывает свои усики туда, где ему подвернутся лопата или грабли. – Возможно, это еще одна реминисценция из «Разума цветов» Метерлинка. Ср.: «Впрочем, всякий живший в деревне имел случаи удивляться инстинкту, какому-то чувству, похожему на зрение, направляющему усики дикого винограда или вьюнка по направлению к палке прислоненных к стене граблей или лопаты» (пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, гл. VIII).
20
…не Диана Вернон, а Роб Рой? – «Роб Рой» – роман Вальтера Скотта (1817); Роб Рой – реальное лицо, национальный герой Шотландии; в романе это таинственный и могущественный незнакомец, который наделен огромным обаянием и помогает воссоединиться главному герою Френсису Осбалдистону и его возлюбленной Диане Вернон.
21
Метстазис – переход болезни из одной части тела в другую (устар.).
22
Гризельда – легендарный образ, воспетый Боккаччо, Петраркой, Чосером и т. д., покорная и смиренная жена; муж жестоко ее испытывает, но она успешно проходит испытания и получает награду; правда, ни в одном из сюжетов она не удаляется мечтать в башню. Возможно, на слуху у Пруста было название оперы Массне «Гризельда» (1901): ведь Массне был учителем близкого друга Пруста Рейнальдо Ана, который откликнулся на постановку «Гризельды» восторженным письмом.
23
Андромеда – в древнегреческой мифологии – прекрасная девушка, обреченная в жертву морскому чудовищу и освобожденная героем Персеем (а не аргонавтом, здесь Пруст ошибся). Между прочим, Пруст, прикованный к дому своей болезнью, в письмах друзьям не раз сравнивал с Андромедой самого себя.
24
Коллеж де Франс – знаменитое учебное заведение в Латинском квартале, предоставляющее всем желающим бесплатные и бездипломные курсы высшего образования по научным, литературным и художественным дисциплинам.
25
Французский историк и публицист Жюль Мишле (1798–1874) посвятил медузам проникновенные слова в своем поэтичном очерке «Море» (1861).
26
…«свою мелодию, свой жар, свой аромат»… – Это парафраз строк из стихотворения Виктора Гюго («Puisqu’ici-bas toute âme», сборник «Внутренние голоса», 1837, IX). Отметим, что друг Пруста, Рейнальдо Ан, в 1888 г. положил это стихотворение на музыку, а сам писатель цитировал его в переписке.