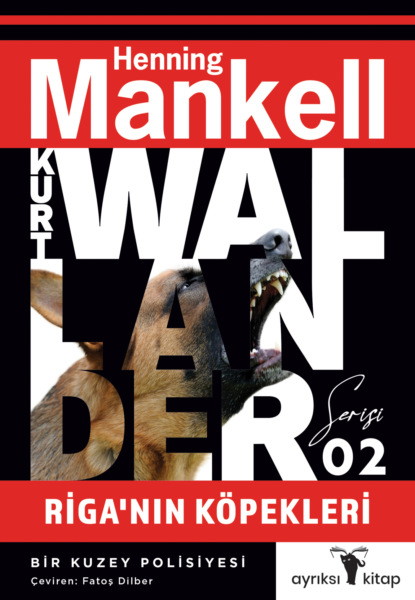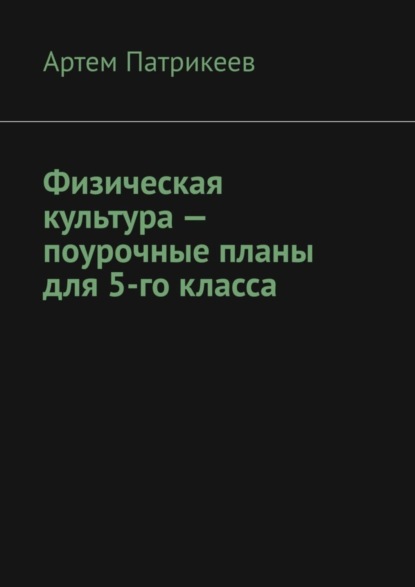- -
- 100%
- +
И вот, когда я собрался прийти к ним с книгой, привести всех, кого породил лет за десять, восстановив урезанное и отбросив пристёгнутое, мне сказали: опоздал, это уже никому не нужно. И о тех же «Насиженных местах», пока я докуривал под форточкой, Вениамин Андреевич читал: «Два года, вроде бы, небольшой срок, но время ныне настолько чудовищно спрессовалось и ускорилось, настолько изменились и мы, читатели, наше восприятие и литературы, и действительности, что ныне не просто понять даже такую вещь, как наш прежний интерес к этой повести. Неужели нам достаточно той бодрой авторской иронии в живописании благоглупостей в проведении перестройки на селе? Описания комедии «свободных» выборов, дебатов на колхозном собрании? Здорового здравого смысла и изобретательности, с которыми мужики противостоят идиотизму и кампанейщине нововведений? Наверное, всё так и было, и два года назад нам всё это казалось и свежим, и социально заострённым.
Что же ныне? Ныне вся эта тематика – общее место публицистики. Никакой «злобы дня» для читателя в повести не остаюсь. Что же касается литературы, прозы, то стало очевидным то, что прежде как бы прикрывалось социальной остротой и иронией: не больно далеко ушла она от языка и стиля «литературы о колхозной деревне», хотя знак и направленность её прямо противоположные. Явственно проступают в повести структуры не столько художественные, сколько публицистические, очерковые, даже газетно-штампованные: «А между тем после майских холодов…»
– Это же надо было поискать! – усмехнулся Вениамин Андреевич. – И дальше… Да это же, насколько я помню, из одной пародийной главы понадёргано. Разве так честно? Или уж все подчиняем решённому: отказать? Тебе знаком рецензент?
– Давно. Даже книжечка его есть. Основательная. Показать?
– Нет-нет, – Вениамин Андреевич помахал ладошкой. – Когда мастера о мастерах – это я ещё почитывал, а критику – это же какой-то параллельный мир.
– Да вы читайте. Лично я ни на кого обиды не держу. Тут другое. Мне не показалось, что он на отказ был сориентирован.
– Ну, хорошо, посмотрим.
«Понятно, что штампы и казённая лексика употреблялись здесь в специальных целях («Ну-ну», – покивал мой гость), для сатиры, только вот время прошло, и это уже не веселит, а набивает оскомину своей худосочностью.
Что делать, большинство книг живёт не столь уже и долго, многие вообще не востребуются, у этой же повести была жизнь, у автора была удача, а это вовсе не пустяк по нынешним временам, когда социальная проблематика меняется уже не по годам и месяцам, а по неделям.
Вот это и есть, пожалуй, главное, что необходимо понять автору и многим другим писателям: литература, так или иначе ориентированная на социальную проблематику, на злобу дня, на «критику действительности», «вскрытие недостатков», сегодня уже не только запаздывает, устаревает на корню, но и как бы бессмысленна в море социальной публицистики всех направлений. «Попадание в струю» всё случайней и кратковременней».
– Ладно, достаточно, – Вениамин Андреевич снял очки, отложил недочитанную рецензию. – Разговор, с которым я вернулся, вроде бы потерял актуальность, – он улыбнулся. – Как там в «Насиженных местах»? «Не плагиатничай у народа»?
– Ну. Народ не виноват, что умеет писать только заявления и жалобы.
– Пока тут гомонили, я всё пытался понять, для чего ты собрал нас. Мне показалось… не буду касаться прочитанного… я подумал, что уже в процессе у тебя появились какие-то серьёзные сомнения, какое-то было внешнее воздействие… Ну, вот так, казённо, зато точно, кажется. Значит, рецензия?
Смешок у меня получился несколько нервический, пришлось подсобраться – передо мной был уже не один из подручных. И праздник, может быть, только начинался.
Короче говоря, на квартиру к приятелю-словеснику я провожал Вениамина Андреевича уже под редкими уличными фонарями, а часть пути и вообще во тьме египетской.
С какого-то момента мы перестали формулировать фразы и заговорили, как, может быть, отец и сын из доброго семейства. Вениамин Андреевич подкидывал точные, безжалостные вопросы, и лучшим итогом разговора нашего было бы уничтожить всё уже написанное и «мужественно» и основательно замолчать. Помолчать хотя бы, оставить в покое письменные принадлежности. Подумать. Почитать хорошие – заведомо хорошие – поднакопившиеся книги. Устроить быт. Поискать, пусть с тысячью оговорок и реверансов самому себе, но хотя бы примериться к другой точке приложения своих, скорее всего, действительно, средних способностей. Но я говорил, что иначе как текущими, пережитыми фактами, всем известными событиями, я не могу оформлять свои мысли, решать свою художническую задачу – и в этом, мы соглашались, что-то было. Подлинное, достоверное. Но обоим было ясно и то, что в итоге всегда останется повод тому же Рецензенту ещё раз продемонстрировать свою проницательность и свою правоту. Коварная штука – текущий момент, современный материал!
– А не далеко мы заехали? – усомнился Вениамин Андреевич. – Написанное должно быть прочитано. Но до конца дописанное, до точки, до того места, где ты сам захотел точку поставить или прерваться на полуслове. И обязательно напиши, что Тарпановка на другой же день знала, что Родион Павлович сказал Мясоедову, – Вениамин Андреевич с хрипотцой засмеялся. – Сам Никита добросовестно и рассказал. Не ново, конечно, но тут важно, до чего сам старик Устимов дошёл: смерти нет! Умирание, ожидание смерти, приготовление к ней начинается с жизнью, но ею же и заканчивается: конец жизни – конец умирания. Нету смерти! Есть смертное – сама жизнь!
Бизяев что хотел, то и делал со мной.
– Володя Суриков приезжал, – говорил он уже дорогой, – «Вёрсты» подарил, жиденькое такое издание. Он, видишь ли, полу-демократ – вот ещё позиция! Самому смешно. И всё о прорыве. Я говорю: а Тарпановка? Мордасов? Ему не страшно: потом подтянутся. А если захлебнётся прорыв твой без тарпановок и придётся возвращаться? Даже не на исходную, вот в чём дело. В истории останется попытка! И гордо так… И, чувствую, я не убедил его, что не попытка, а несмываемое пятно, проклятье останется на социал-, полу- и просто демократах.
Он звал меня к своему приятелю, раз уж мы знакомы, но я-то помнил, что компаний тот сторонится. И побежал домой. Бегом. Задыхаясь. Ещё и не знал, что сделаю: изорву ли всё, или сяду писать дальше.
И вот заканчиваю эту внеочередную главу.
Уже растиражирован призыв к непрофессионалам, к средним и серым, отрешась от амбиций, включаться в посильное культурное строительство на местах, обнародована страшная правда, кем и для чего мы, серые, средние, были призваны в литературу, и намерения ведущих изданий сформулированы: поднять вкус, ужесточить требования к тексту. И всё мне понятно и, в общем-то принято, а всё же завтра я буду писать новую главу. Или другую вещь. Почему?
А потому, наверное, что остаюсь любящим вас тарпановцем.
Лёгкий сон в саду зелёном
1
Что-то опять не заладилось с мехдойкой, девчата по три, а кто и по четыре коровы додаивали вручную, и Семён Зюзин, кособочась на Гнедом, истрачивая уже терпение, собирал издёрганных животин за нижними воротами карды. Изредка вскрикивал диковатой птицей, и тогда Верный уносился заворачивать глупую скотину от воды. Пруд был отравлен, ветврач всюду натыкал флажков и тем окончательно «обеспечил» и без того сумасводные, самые первые дни на летней стоянке.
Отрава пришла из Вдовиной щели, куда и соседний «Маяк», и дальний «Прогресс» много лет валили удобрения, гербициды, ветеринарную химию и карантинную падаль. Водам оттуда не было выхода, наоборот, они там, действительно, как в сквозной щели исчезали, да нынешняя весна переполнила и не такие котлованы. Вот и пробился из карьера ядовитый ручеёк, помедлил, набухая, и потёк не к безобразникам, а мимо Вязьминой дачи в Сухой – тарпановский пруд.
Двух справных коров оттащили трактором на свой скотомогильник, прежде чем ветврач сообразил, откуда пришла напасть. Вдовину подпрудили, а Сухой все ещё не спускали – держало то, что в низовьях перегороженной лощины стоял второй гурт, и следовало пока хотя бы там сохранить воду в приблизительной чистоте и годности.
Зюзин имел на происшедшее свою точку зрения. Он сказал, а потом и сам твёрдо уверовал, что те две коровы прямо из ручейка хватанули, а вода в Сухом какая была, такая и осталась, и незачем его распружать и лишаться на все лето водопоя.
– Если не отравленная, возьми и напейся, – подначивали девчата, особенно эта Швейка.
– Безалкогольное не употребляю, – отвечал Зюзин и посылал на пруд Верного; собака лакала с камушка, потом весь день работала на пастьбе, и все удивлялись. – Да с чего ж ей подыхать, если нормальная вода, – сердился на бабью тупость Зюзин. – Или, думаете, с полей мало этой химии в пруды, в Молочайку каждый год стекает? Вдовина щель им виновата!
Такую он проводил наглядную агитацию во все карантинные дни, но сказать, что и сам лет шесть назад отвозил в карьер полкузова драных мешков с какими-то спёкшимися гранулами, не сказал – обстановку это мало разрядило бы, даже наоборот.
– Такое будет, что копнёшь землицу, а оттудова кровь, мамака читала, – ку-дахтала экономка Попадейкина.
– Свет-конец, девки!
А сегодня Зюзин свой личный предел почувствовал, совсем рядом, вот-вот, если не явится Баженов, как обещал. Он и вообще-то болел – передоверился, наверное, майскому солнышку, полежал на сырой земле, и теперь знобило его, и в седле он едва держался.
– Куд-да, сволочи гадские! – выкрикивал с болью. – Паси, Верный!
И поглядывал на дорогу. Мишке Баженову он сказал, что мешок будет лежать в вагончике, и тот обещал явиться за ним сразу с «лекарством». И вот всё не являлся. «Ждёт, наверно, когда доярки на село вернутся, – сообразил запоздало. – Чего их ждать…»
– Эй, …ок! Да гони ты их за ради бога от пруда! – услышал Зюзин пронзительный крик Маньки Швейки и, круто повернув Гнедого, погрозил кнутом; какой дурак только прозвища выдумывает: …ок! – и на всю степь.
Но, кликнув Верного, погнал всё же, направляя стадо вокруг пруда к Вязьминой даче. Болтаясь в седле, время от времени посматривал на дорогу и назад, на стоянку. Молоковоз с экономкой уже отъехал, расторопные девчата уже маячили за окошками автобуса, но двое ещё возились с доёнками возле выкипавшего котла.
На перегоне через подсохшее руслице мешкать было нельзя, Зюзин собрал свои все силы и в мыло загнал Верного. Миновали. Теперь можно было пустить коров на самоход и остановиться. Он повернул Гнедого и увидел только лёгкую пыль за автобусом. Долго смотрел ему вслед, думая, что спасение теперь рядом.
На опустевшей стоянке вдруг раздались тяжёлые удары по железу, и Зюзин аж вздрогнул. Быстро глянул туда. Так и есть: Правая Рука Морозов дождался, пока схлынет народ, и взялся чинить мехдойку! Вот приедет сейчас Мишка – и что? не станешь же при этом…
– Сто лет один будет корячиться, – сердито пробормотал Зюзин.
Но Баженов находчивый – и это его на какое-то время успокоило. Проехал немного за стадом. Остановился. Нет, пустая была дорога… А со стоянки долетали теперь частые и лёгкие удары. «Он же без транспорта, – подумал о Морозове. – Значит, жди, кто-нибудь прикатит, не до вечера же его оставили».
И тут на горизонте, где дорога вниз по Скупой горе уходила к Тарпановке, нарисовалась долгожданная точка.
– Явился, – вырвалось из самого спёкшегося нутра: точка быстро приобретала очертания грузового мотороллера с седоком в танкистском шлеме.
Подождав, пока мотороллер приблизится к повороту на стоянку, Зюзин снял кепку и начал кругами махать ею над головой. Мишка знак понял, сворачивать не стал, а прямо по бездорожью двинулся к нему. Мотороллер трещал, раскачивался, но ехал и даже отравленное русло преодолел с ходу.
– Чего ты? – спросил Мишка, не слезая с техники и не глуша мотора. – Нету?
– Как нету? Чистый ячмень! – не в меру горячо успокоил его Зюзин. – Я тебе крапивный мешок набил – не увезёшь на этой трещотке!
– Да и я тебе не квасу привёз, – усмехнулся Мишка.
– Правая Рука там, – Зюзин ткнул кнутовищем. – Но скоро уберётся, – добавил поспешно.
Мишка привстал на мотороллере, окинул взглядом стоянку – оттуда как раз опять долетели частые удары, – вздохнул.
– Болеешь, что ли? – спросил.
– Спасу нет, – признался Зюзин. – Вот-вот конец.
– Тут будешь?
Семён Антоныч стал бы и не слезая с Гнедого, но рождён он был христианкой.
– Поехали в сад, – предложил, – два шага осталось, – и показал на Вязьмину дачу. – Сам-то как?
– Да можно, – протянул Мишка и, газанув, отъехал.
– Я следом! – крикнул Зюзин и, тратя остаток сил своих, пустил Гнедого на рысь, чтобы поскорее сбить стадо, расколовшееся надвое; самые упрямые коровы попробовали его кнута с шёлковым нахвостником, и, сказав Верному «паси!», он пустился по следу избавителя.
Летом Вязьмина была всё равно что ресторан по сравнению с подворотней, а сейчас ещё рано – ни одичавших яблочек, ни грушек-дулечек. Даже и цветки были редки на поломанных, с куцыми кронами, деревцах. Плодовый сад окружали осины и ветлы, попадались кое-где берёзки, а на месте хозяйского дома, позже – колхозной сторожки, бушевали терновник, шиповник и прочая колючесть и непролазность. Брошенный был сад, но приют давал до сих пор. Выпростав удила, Зюзин оставил Гнедого возле мотороллера и начал подниматься на террасу сада. Может быть, сразу тут был уступ в котловине, обращённой открытой стороной к югу, или хозяева искусственную насыпь делали, но площадка была ровной, от северных ветров укрыта капитально, а в заросшем овражке, пожалуй, и сегодня можно было раскопать давно угасший родничок. Всё имелось для устройства жизни и труда, только работников не стало. То яблоки с мужичий кулак рождались, – Зюзину казалось, что он сам помнил это время, – а теперь разве что с детский кулачок и найдёшь, да и те сорвёт наезжающий люд до спелости… Теперь он мог позволить себе размышлять отвлечённо.
Избавитель уже полулежал на пригорке в самой середине сада, открытой солнышку из-за поломанных и большей частью не растущих яблонь; отсюда и пруд, и стоянку было видно поверх зелёного ограждения как на ладони.
– Вясна-а, – блаженно протянул Мишка, стащил с головы шлем, пригладил, а потом растрепал задиристый, как у молодого, чуб.
– Щепка на щепку лезет! – мелко засмеялся Зюзин, опускаясь рядом на колени; его ещё знобило, и он даже не расстегнул брезентовый дождевик. – В субботу Вагонке мешок завозил, так, сучка, во все стороны жопенцией вертит: может, зайдёшь, говорит…
– Натурой хотела отделаться! – хохотнул Мишка, и стало ясно: никуда он не торопится.
Зюзин зябко повёл плечами, достал из кармана плаща сплюснутую алюминиевую кружку без ручки.
– Однако, чилячок! – оценил Мишка полезный объём посудины и вытащил «ноль-семьдесят-пятую» с обвязанным по-аптечному горлышком.
Первую, помянув все земные муки, Зюзин вытянул до самого донышка. Всё выцедил: и табачный сор, и какие-то крошки, отлепившиеся и всплывшие со дна. Мишка вытер после него посуду тряпочкой, похожей на носовой платок, налил и хладнокровно выпил сам. Зюзин уже тянул «примача». Прислушиваясь к организму, он готов был продолжить весеннюю тему, рассказать одну из прежних историй, связанных с бабами, но, не в силах отделить действительный случай от придуманного, покамест молчал. Память у него была в основном словесная, и, сбрехнув один раз, он уже сам верил в сказанное и легко вспоминал подробности. Но сейчас и с медицинской точки зрения полезно было помолчать, пережидая быстротекучий кризисный момент.
– Чего потух? – лениво спросил Мишка. – Не прививается? Сам видишь, у меня без обмана: что себе, то и людям.
Зюзин уважительно кивнул, не выпуская изо рта сигаретку.
– Вакум, что ли, не идёт? – спросил Мишка, глядя в сторону стоянки. – Знакомая песня… Может, помочь ему, чтоб быстрее смотался?
– Он без транспорта. Счас, гляди, «Фитиль» прискачет.
– Отделились – пусть теперь знают, почём молочко… Да не томись ты, наливай сам.
По бумажкам, Мишка теперь вольный мастер по ремонту бытовой техники. Действительно, под сараем у него целый склад брошенных хозяевами машин, и в бачках от стиральных он солит грибы, капусту, заводит брагу – они ведь из нержавейки. У Мишки всегда есть, и кто знает – помалкивает, кто не знает, но догадывается – тоже пока молчит, кто не знает – жалеет земляка, бросившего твёрдый заработок, а кто не знает и не догадывается – так и думает, что индивидуальная трудовая деятельность – это и авторитетно, и выгодно, и хорошо; ведь не скажешь по Мишке, что семья его последний кусок доедает, а сам он – ущемлённый в правах оборванец. Да свои права и обязанности Мишка знает лучше любого законника!.. Размышляя, Зюзин прислушивался, как расходится целебный Мишкин напиток.
– Ты чего-то раскис, Семён, – недовольно проговорил избавитель. – Гляди, не перелей. – И помолчал, играя веточкой. – Куда мешок-то дел?
– В ящике, как в сундуке!
– Съездить, забрать, что ли, – подумал вслух Мишка. – Вроде как подсказать этому слесарю – и забрать… В вагончике, говоришь?
– Всё, Миш, поехали! – путаясь в плаще, Зюзин поднялся на ноги. – Поехали, Миш! За своим, не за господским…
«Ноль-семьдесят-пятую» с надетым на горлышко «чилячком» он спрятал в коряге и припустил кособоко за Мишкой; в танкистском шлеме тот нигде не пригибал голову, потревоженные им ветки раза два ударили Зюзина по лицу, но он не обиделся, а рассмеялся.
Гнедой подбривал травку вокруг мотороллера, фыркая и бренча уздечкой.
– Ждёт, – ласково проговорил Зюзин, но, глянув в сторону стада, посуровел. – К Вдовиной щели попёрлись! Разжалуем Верного!
Плащ мешал взобраться в седло, и тогда он проделал это из кузова мотороллера. Вдел сапоги в стремена и посмотрел на Мишку сверху.
– Поезжай на стоянку, – распорядился, как самому показалось, отчётливо и внятно. – Заверну скотину, и будем грузиться.
Он поднял кнут, Гнедой тронулся с места, и лёгкий ветерок умыл его разгоревшееся лицо. Отъехав и все ещё чувствуя на себе Мишкин взгляд, Зюзин достал сигарету и закурил на ходу. Долго держал потухшую спичку двумя пальцами на отлёте, потом выбросил; степь за ним ещё не горела ни разу.
2
Очнулся Зюзин – вроде в легковой едет. Вытянулся, лежит, и его мягко покачивает. Но мотора не слышно, только колёса поют, поскрипывают. Открыл глаза – и увидел чистое небо, а по бокам – древесные ветки зелёные. Сладкий, будто от портвейна, запах защекотал ноздри. «Прямо рай, – подумал Зюзин, – если он есть».
– А как же! – прозвучал за изголовьем Мишкин заносчивый голос. – Вечером заезжайте – поделимся!
– А кого везёшь? – яснее послышалось сбоку.
– Да вроде Зюзина. Был такой мужик в Тарпановке.
«Издевается он, что ли», – подумал Зюзин.
– Из дому заехал в старый карьер ила на пробу взять, – разговорился Мишка. – Копнул лопатой – дыра! И этот лежит… как египетский царь. Даже окурок изо рта торчит целенький!
И Зюзин тут же почувствовал этот окурок, аж челюсти свело, как зажал он горчащую гадость.
– Стой тогда, дай посмотреть!
– Тпру-у, Мирный.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.