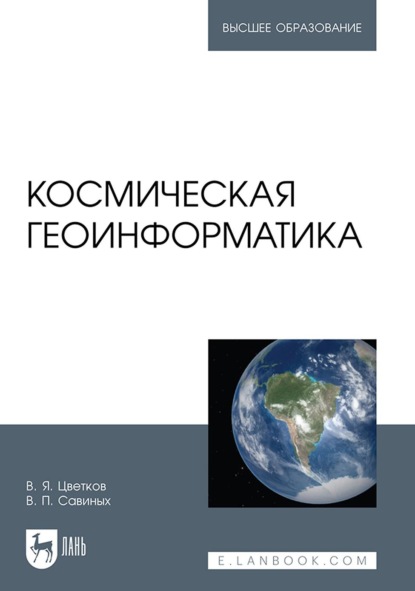Журнал «Парус» №68, 2018 г.
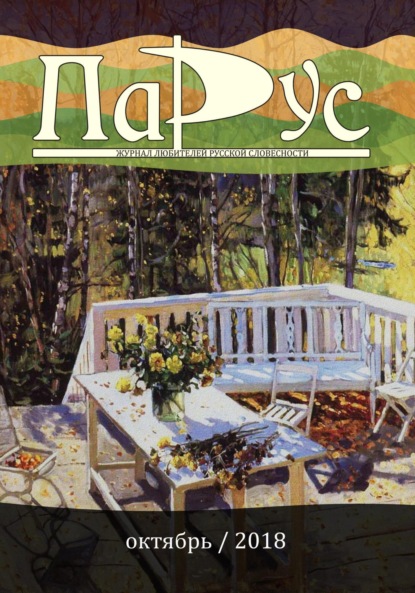
- -
- 100%
- +

Цитата
Алексей ТОЛСТОЙ
***
Осень. Обсыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтевшие по ветру летят;
Лишь вдали красуются, там, на дне долин,
Кисти ярко-красные вянущих рябин.
Весело и горестно сердцу моему,
Молча твои рученьки грею я и жму,
В очи тебе глядючи, молча слезы лью,
Не умею высказать, как тебя люблю.
1858
Художественное слово: поэзия
Андрей ШЕНДАКОВ. Лирика осеннего дождя
***
Едва затеплившись, рассвет
молчит над пойменным туманом,
а в небесах, над млечным станом,
сто тысяч лет, сто тысяч лет
звезда прозрачно-голуба,
хрустальным пологом воздета,
сто миллиардов раз воспета —
Вселенной вечная раба.
О, сколько носишь ты имён,
скитаясь в толще мрака, дыма?
Словами, взглядом опалима;
не я один в твой свет влюблён.
Тебе, тебе я шлю привет,
наш путь покорен и всевышен.
Дрожит на каплях диких вишен,
едва затеплившись, рассвет…
***
В августе травы сухие,
в августе глубже закат:
на перепутья лихие
первые листья летят.
Ярче дорожные грёзы:
тропки бегут к берегам,
но голубые стрекозы
реже садятся к ногам.
Небо дрожит наливное
в вечной своей высоте:
солнце – живое, иное —
льётся по млечной воде…
Лоскутки
I
Остатки солнечной молвы
теряет дальний переулок:
луч ускользнувший сладок, гулок
в изгибах веток и травы,
в листве, отдавшей изумруд,
где звуки сдержанны и кротки;
на берегу ночные лодки
который год кого-то ждут,
но где истратились они,
пути, застывшие в затоне?..
Природа трепетно в ладони
взяла вечерние огни.
II
Порою я в себя не верю,
порой не верю и в Тебя,
но с этой ношей в лапы зверю
легко отдаться, не любя;
легко исчезнуть, раствориться
в безликой слякотной толпе:
летит неведомая птица
в закатном солнечном огне;
а между тем в огне Природы
и в чистой поступи высот
так много скорби и свободы,
что не вмещает небосвод.
III
Мои небесные святыни:
из тихой заводи глоток,
едва заметный вкус полыни,
в воде застывший поплавок;
рыбак, скамейка над рогозом,
высокий берег, шум берёз,
дымок над глинистым откосом,
где дальний свет многоголос;
о Ангел, ты велик и славен:
в немом движении реки,
впитав лучи открытых ставен,
твои сложились лоскутки…
Осенняя лирика
I
Снова ветры свой спор завели,
запах сосен смолист и несладок,
улетели куда-то шмели,
опустели тропинки посадок.
За травой, за штрихами оград,
в зыбком поле, прозрачно-белёсом,
воздух солнечный солоноват —
под вселенским распахнутым плёсом.
У подножия рощ и полян,
в окнах самого дальнего дома
цвет вечерний глубок и багрян,
ночь неведомой силой ведома…
Наступает незримо печаль,
открывается стылая осень —
и качает небес литораль
бесконечную лунную просинь.
II
Осенние кроны шуршали,
а души искали родства;
над краем спадающей шали
с тропинки взлетала листва.
И взгляд твой, и к дому ступени —
всё выжег опаловый свет;
и тёплые лунные тени
искали наш спутанный след.
Под замершей в небе кометой
речные скрипели мостки;
немыслимой осенью этой
мы были впервые близки —
к падению в горние выси,
как пух перелётных зарниц,
как свет, наплывающий к ризе
едва приоткрытых страниц…
III
Прохладная тишь запоздала:
сентябрь необычно лучист;
в серебряной лодке причала
уносится сорванный лист.
К земному склонён изголовью
строительный кран-исполин,
кроваво-сиреневой дробью
пронизаны кроны рябин.
А тени – попутчицы страха —
взлетают с речной глубины,
как будто с Чумацкого шляха*
доносится сполох войны.
К рукам, к пожелтевшей бумаге
закат пригорает слезой:
качнувшись, пожухлые маки
стреляют засохшей росой.
-–
* укр. Чумацький шлях; украинское название галактики Млечный Путь.
***
Осень – лирика в лёгкой тунике
С золотисто-пурпурной каймой,
В каждом тихом серебряном миге
Слышен Космоса вечный прибой.
С каждым шорохом гулко, отлого,
Проплывая над Млечной дугой,
Отзывается в сердце тревога
От природы прозрачно-нагой.
В каждом звёздном плывущем карате
Поступь Бога: взлетая, сорви…
И так много вокруг благодати,
И так много незримой любви.
Мимолётные дни
Л.Ш.
I
К сожалению, всё мимолётно,
мимолётны секунды и дни.
Всё истлеет, истлеют полотна
и знамёна. На небо взгляни!..
Видишь эти осенние выси,
острый месяц в янтарном огне?
К этой стылой немыслимой ризе
прикасаются блики на дне.
Это дно – наши горние своды,
наши окна и лики церквей,
из которых исходят народы,
как морозный огонь-суховей.
Так не плачь: как и водится, мимо —
как ни целься! – ударит лоза…
Лишь теченье далёкого дыма
возвращают на миг небеса.
II
…Этот город – осенняя сказка,
этот город – холмов высота:
есть печаль и немного – опаска,
гладь речная вдоль склонов желта;
где церквушек искристые пятна
проплывают: пространство цветёт.
По волне воротиться обратно
невозможно, а только – вперёд,
чтоб, как лунки, янтарные лики,
напитавшись зеркальной водой,
отражали небес базилики
средь листвы золотисто-седой…
Повторятся великие круги —
можно их бесконечно верстать.
Возвращая земные недуги,
просветляет сердца благодать!
***
Рябин осенних звёзды-угольки —
На блеклом небе вспыхнувшие бусы,
А облака то пепельны, то русы,
В траве горит закатный всплеск реки.
Сквозь камыши мелькает свет костра,
Холмам кивает сонная крапива,
Над садом долька белого налива —
Луна в ветвях спокойна и хитра.
Ещё летает в сумерках оса,
Но чтоб её услышать, мало слуха…
И на пороге слабая старуха
С ладони кормит радостного пса.
***
Под хлябью небесной ложбины,
Вдали от широких дорог,
Осыпан огнями рябины
Забытый людьми хуторок:
Два прудика, рядом – оградка,
Следы лошадиных копыт,
На склоне капустная грядка…
Душа, как и прежде, болит
О старом, трухлявом заборе,
О доме, склонившемся ниц…
Пшеничное спелое море
Штормит возле древних гробниц.
И с кладбища, словно из пены,
Выходят монахи-гонцы:
«Грядут ли в ваш век перемены?..
Не знают святые отцы…»
Луны пересохшая корка
Плывёт над холмами во мгле…
Лишь машет колодец с пригорка
Ведром на кривом журавле.
ДЕРЕВЕНСКАЯ ОСЕНЬ
Вся округа – в молочной сорочке.
Вдалеке, на пологом холме,
Фонарей разноцветные точки
Беспокойно мерцают во тьме.
Чернобровая юная осень
С тёплым ветром идёт налегке,
Её глаз холодящая просинь
Проступает в ночном роднике.
На штакетнике мокрые банки
Озаряет лучом бирюза.
И над крышами с зеленью дранки
Одиноко темнеют леса.
***
Острый месяц в лазурном окне,
А под ним, вдалеке багровея,
Сквозь туман убегает аллея —
И пылает в закатном огне.
Светлый купол, служитель веков,
Еле виден в листве тополиной,
Берег пахнет цветами и тиной,
По реке плывут тени домов.
Где теперь и судьба, и сума?
Может быть, в беспокойных зарницах
И в парящих над бездною птицах,
Тех, что вскинула Вечность сама…
Тайна
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет – и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма…
А.С. Пушкин
Нет правды на Земле,
но правда есть чуть выше:
на письменном столе,
над сводом дальней крыши,
в янтарной глубине
лесной воздушной чащи —
почти на самом дне,
где бьётся сердце чаще;
где огненны гонцы
и ангелы проворны;
где в россыпи пыльцы
звучат ночные горны.
Услышать их во мгле,
увы, нельзя случайно…
Есть правда на Земле,
как Бог и даже Тайна.
***
Лирика осеннего дождя,
на душе – покой и благодать:
по траве пожухлой проходя,
продолжаю близких узнавать —
тех, которых нет давно со мной,
тех, в которых – солнечная мгла;
их навеки в неземной покой
круговерть земная увела.
Принимая и добро, и зло —
всё, что зыбко в этом тихом дне,
окликать ушедших тяжело,
откликаться нелегко вдвойне…
Татьяна ВИНОКУРОВА. Мировой жестокости вопреки
***
Это чудо ли, колдовство ли,
радость грязной глухой дыры —
годовые остатки боли
белым сыплются на дворы.
Я смотрю на недолговечный,
на шиповничий снегопад —
где морщинистые сердечки,
как под шапочками, дрожат.
Полчаса и крупинки в чёлке —
и стоит во дворе, велик,
сразу тающий получёрный
мой октябрьский снеговик —
То ли просто порыв, а то ли
силы есть ещё… В гаражах
всё прерывисто тараторит
пистолет шиномонтажа.
Р.
Не человек – намёк. Пунктир.
Ты пустотою озадачен.
Как будто мир, как будто мир
она пакует в чемоданчик.
Ты без пяти минут один.
Ты худ, как контурная карта.
Добавят в голову седин
всего каких-то тридцать мартов.
Теперь чем хочешь заполняй
свои вселенские пустоты.
Сгоняй с подругой на Валдай,
рабом палаточной субботы.
Всего важнее и больней
и прочего всего мудрее,
что, не живя совместно с ней,
не умираешь вместе с нею.
Красив, высок и безголос,
стоишь у магазина «Кредо».
А жизнь суёт тебе под нос
твою зелёную победу.
ДАЧНЫЕ СТОЛБЦЫ
Когда уснёт большая, как судьба,
Централи красно-белая труба,
Гнетущая и мрачная, пятьсот
Дементоров рождающая в год,
Давай мы навсегда уедем жить
Туда, где есть стрижи и нет 3G,
Где яблонь грациозны и белы
Сияющие известью стволы.
Нам предстоит узнать, что значит дом,
Постигнуть своим маленьким умом
Всю мощь того, кто вплоть до гаража
Сумел сложить два этих этажа,
Жить без причуд, излишеств и арен
И вырастить крыжовник и сирень,
Сквозь зелень чтоб дымящийся завод
Вдруг стал похож на белый пароход.
Грубеют руки. Сад и огород.
Мы слабый избалованный народ —
К такому не привыкшие труду,
Становимся подобными кроту.
Раствор полива розов, марганцов,
И вьющиеся плети огурцов
Мне бабушку напомнили мою.
Я постоянно с нею говорю.
Её вечнозелёная душа
В меня переселяется дышать,
Ведь сила огородного тепла
Из рук её, из слов её текла.
Лопата, и зола, и прочий скарб,
Шкворчащий на решётке белый карп,
Земля после дождя, цветы на ней —
Здесь всё напоминает мне о ней.
А ты, собравшись с силами начать,
Идёшь во двор качели врачевать,
В полуденный раскрашивая час
Скрипучий и проржавленный каркас,
И для того, кто в нашу жизнь вошёл
Хохочущим и славным малышом,
С двойным усердьем – Стёпа, покажись! —
Теперь даёшь вещам вторую жизнь.
Спустя три года – будто сто спустя —
Мы превратились в крепость и костяк,
Скрутились в жгут, собою повторив
Объятье двух срастающихся слив.
До первых не дожившие седин,
Мы будем слушать, растопив камин,
Как гулкий птичий сумеречный час
На добрый труд благословляет нас.
ЛЕНТА
Тело хрустит суставом,
Стих заряжает в руку.
Здравствуй, герой усталый,
Вставленный в пятый угол!
Что не наводишь кудри,
Гений семейной жизни?
Кистью от старой пудры
Клавиатуру чистишь,
Не закаляешь стали,
Не добываешь уголь.
Дымной крутой спиралью
Скручен небесный купол.
Что завязать с куреньем
И материться бросить, —
Лучше ли, сонный гений,
Жить в телефоне носом?
И над борщом и газом,
С радостью или с болью,
Наглухо перемазав
Руки свекольной кровью,
Даже когда под боком
Спящий сопит подсвечник, —
Палец листает с Богом
Глупую бесконечность.
И, пока умным ядом
Полнится лента днями,
Счастье летает рядом
Мыльными пузырями.
***
Год пережив, ты годом пережёван.
Родными мертвецами арестован,
В цветком растресканное лобовое
Вглядишься, подъезжая к городку,
Где призраки на каждой остановке,
Где прошлое в привычной обстановке,
И с фурой на Лозовом водопое
Толкаться в очереди к роднику.
Пятилитровку набирают долго.
Причастье убивает чувство долга.
Себя закрывший в опустевшем доме,
В столице мини-жизни, мира вне,
Там, где вдоль леса торговали клюквой,
Колонки горло извергало буквы,
А нынче пот в натопленном салоне —
Душа, стекающая по спине.
Теперь метёт. А думалось, всё верно,
Когда машину уводило влево,
Что Бог простит любимым всякий промах
И от беды закроет их собой.
Соседний двор. Незаводимый «опель».
В окне знакомом незнакомый профиль.
И мокрый снег в чернеющих проёмах
Зачёркивает всё двойной сплошной.
***
Вот и хватит уже про боль,
О которой ни сном ни духом.
Мир засыпан чистейшим пухом,
И конфетами – антресоль.
Лучше жалобы и нытья —
Самодельная хренодёрка,
Добросовестная уборка,
Удовольствие от житья.
Может быть, и в твоём дому —
Тот же запах, еловый, колкий,
И смакуют впотьмах икорку,
Подмороженную хурму,
И летят не без мастерства
Карапузы вокруг церквушки
За окном на цветных ватрушках
С ощущением Рождества.
***
Всё дымит за окном труба в заводском подсвечнике,
Утекают рекою деньги, бегут деньки.
Под балконом среди окурков цветут подснежники
Мировой жестокости вопреки.
Если хочешь кому поплакать о доле горькой,
Если в самых крутых мечтаниях недалёк,
Приглядись: там, внизу, под старой советской горкой
Повисает хрупкий сиреневый стебелёк.
Нам так жалко себя, мы больные, кривые саженцы,
Не ко времени нас посеяли, но смотри
На тончайший фонарик жизни, когда покажется,
Что всё вылюблено и выболено внутри.
Если холод собачий в мире, а дело к маю,
И дождём затяжным отрезало путь наверх,
Знай, что это Господь подснежники поливает,
Умывает слезами Чистый земной четверг.
Александр ДАШКО. Возле снегопада
***
Я в море желтых одуванчиков
хочу навеки утонуть.
С печалью нужно ведь заканчивать
когда-нибудь, когда-нибудь.
Они из солнца невесомого,
как будто маем рождены.
И в них так много незнакомого,
и желтизны, и желтизны.
Гуляют парочки аллеями
и обнимаются – ну пусть.
А одуванчики развеяли
простую грусть, простую грусть.
Они так быстро разлетаются,
из серебра оставив тень.
Но пусть влюбленным вспоминается
весенний день, весенний день.
***
Я прошелся возле снегопада
и забыл, какой сегодня век.
Видно, ничего весне не надо
в обреченном городе двух рек.
Где-то промелькнуло «…рой за роем…».
Что там дальше я, увы, не смог
вспомнить. Фонари мне приоткроют
что-нибудь в загадке этих строк.
Бесноватый заметался ветер,
потерявшись в сонме этажей.
По стене лупил как будто плетью,
по стене и по моей душе.
Как же тщетно я искал ответа
на вопрос «какой сегодня год».
Ветер отрывал от сигареты
искры, отправляя их в полет.
И когда стоял один, безликий,
вдруг подумал, так, издалека:
«Ведь поможет ветер забулдыге
добрести до нужного ларька».
***
Слишком быстро всё тает
у меня на виду.
Путь к убогому раю
я по лужам пройду.
Кто облил соком утра
голубые дома,
поступил очень мудро.
И простилась зима.
И идет то ли дождик,
то ли слезы текут.
Я вдыхаю до дрожи
запах этих минут.
Я вдыхаю. И тает
на груди липкий снег.
До убогого рая
не добраться вовек.
***
Душисто, прозрачно и жарко
дыхание белой весны.
Мелодию старого парка
ты в сердце своем сохрани.
Пройдем по знакомым аллеям,
не глядя с печалью назад.
Черемуха не пожалеет
живительный свой аромат.
А после обнимемся крепко
и бедам настанет конец.
А облако будет как слепок
двух любящих наших сердец.
Черемухой пряной пропахли
зовущие губы твои.
Мелодия старого парка —
как гимн бесконечной любви.
***
памяти Евгения Евтушенко
Поэты уходят в снега,
и в этом какая-то тайна.
Дорога бела и долга,
а снег никогда не растает.
Следы заметает метель
и мир накрывает сетями.
Поэты уходят в апрель,
сырой, со скупыми дождями.
И встанет поэт прикурить
на самого мира окраине.
Поэты пришли уходить,
и в этом какая-то тайна.
Елена МАРЧЕНКО. Мысленно в детство вернусь
***
А на улице, посмотри,
Март и мыльные пузыри,
Их мальчишка лет девяти
Выдувает мечтательно.
Вместо первых весенних птах
Отраженьем в больших глазах —
Счастье в радужных пузырях
И любознательность:
Как становится вдруг пузырь
Ровным и в высоту и вширь?
Пролетит ли через пустырь
Или лопнет дорогою?
Он хохочет, и звонкий смех
Разливается по весне
И улыбкой наивной всех
Проходящих трогает.
***
Шагаю к тебе, поднявшись на кончики пальцев,
тянусь всей душой.
На улице звонкой капелью март осыпается
с хмурых карнизов.
Весна – это время влюбляться
и, сняв капюшон,
смотреть, как в небесную высь
возвращаются птицы.
Я прячу перчатки, вручаю ладони тебе,
дороги плывут.
Луч яркого солнца на чёрном пальто оставляет
тёплые пятна,
и я застываю в блаженстве
коротких минут,
наполненных светом, тобой
и дыханием марта.
***
Помнишь, мечтали когда-то давно,
Как мы с тобой заведём добермана,
Чтоб, лёжа вечером возле дивана,
Пёс вместе с нами смотрел бы кино.
Мы бы купили красивый торшер,
Кресло-качалку, ковер для гостиной,
Чешский хрусталь под игристые вина
И деревянный карниз для портьер.
Мы всё придумали до мелочей:
Два полотенца на кухне в цветочек,
Полку под книги и имя для дочки…
Жаль, только вышло, что дом тот ничей.
***
Жарким дыханием мне в плечо,
Зноем по позвонкам на шее —
Так упоительно горячо,
Так восхитительно сердце греет…
Щедро июнь разбросался теплом,
Спелой клубникой ладони испачканы,
Просто не думаю ни о чём
И хохочу, потому что счастлива.
Солнце, рассыпавшись на лучи,
Гладит меня по веснушкам рыжим,
Слышу, как ярко оно звучит —
Лето на раскалённой крыше.
***
В детстве забот-то было:
Ссадина на коленке,
Вдруг расплелась косичка,
Мячик пропал в траве.
Я всё вокруг любила,
Кроме молочной пенки,
Запаха жжёных спичек,
Йода и сна в обед.
Так поскорей хотелось
Вырасти – взрослым проще
И интересней даже —
Взрослые могут всё!
Выросла, повзрослела,
Ссадины стали больше,
Йод перестал быть страшным,
Жалко, что не спасёт.
***
Осень приходит в мысли,
Птицами не щебечет,
В берег волной не бьётся
И не трещит морозом,
Вяжет свой плед из листьев,
Чтобы укутать плечи,
В нити вплетая солнце
И горьковатый воздух.
Осень поёт ветрами,
Смотрит с улыбкой в лужи,
В путь запускает с клёнов
Жёлтые вертолёты —
И, опадая в память,
В такт с листопадом кружит
В парке вокруг влюблённых
Вальс по дождливым нотам.
В чае – лимон с корицей,
В небе размыта стая,
В сумочке зонтик зябнет,
Свесился шарф наружу.
Рыжая, как лисица,
В старом пальто, босая,
Спрятавшись в лето бабье,
Осень приходит в душу.
***
Вечер замерз, и дождя тихий шорох
Плёлся по улицам сонного города…
Знала ли я, что люблю светофоры?
Нет, раньше знать это не было повода.
На перекрёстке шептал что-то ветер
Окнам домов вдоль пустой магистрали,
Красным напротив горел человечек,
Словно смущённый, что мы целовались.
В тёмном такси, торопящемся к дому,
Я улыбалась, когда мне навстречу
На светофоре другом вспыхнул снова
Тот же смущённый сигнал-человечек.
***
Старый автобус продрог,
Окна в холодном и белом.
Грею, как в детстве, кружок,
Только уже не так смело.
В нём фонарей огоньки
Льются сквозь стужу и манят,
Варежка с левой руки
Спряталась в правом кармане.
Вечер ноябрьский пуст —
Может, хотя б на немножко
Мысленно в детство вернусь,
Грея кружок на окошке…
Художественное слово: проза
Вячеслав АРСЕНТЬЕВ. Как они там?
Рассказ
Александру Васильевичу Веснину стал сниться один и тот же сон. Пожилая женщина с неясными чертами лица являлась ему и задавала короткий, но неизменно повторяющийся вопрос: «Как они там?»
Веснин понимал, что вопрос она задает именно ему, но кто эти «они» и где это «там», поначалу уяснить не мог. А женщина ничего не объясняла, просто спрашивала, протягивала руку – будто хотела погладить его по голове – и пропадала.
Однажды, проснувшись утром, он вдруг понял, кто эта старуха: это же бабушка Катя! Его родная бабушка, мать отца, приходит к нему в его зыбких снах, и просьба ее проста и конкретна: она хочет знать, что стало с ее самыми близкими, с теми, кого оставила на земле, после того, как ее, пятидесятивосьмилетнюю, доел рак желудка. Сашке Веснину тогда чуть за годик перевалило, и вспомнить бабушку он теперь, конечно, не мог, но по рассказам родителей знал, что умирающая часто просила дать ей подержать ребенка и высохшей слабой рукой гладила его по головке, что-то чуть слышно нашептывая.
Фотографий Катерины Груничевой, ни молодой, ни старой, – никаких совсем! – не осталось. Даже самой захудалой карточки, совсем простенькой, излаженной сельским фотографом-неумехой, не нашлось в деревянных рамках на стене деревенского дома Весниных. Потому, наверное, и старуха во снах лицом никак не обозначалась.
Александр Васильевич не верил ни в черта, ни в бога, но, как всякий человек, выросший в деревне и с детства наслушавшийся небылиц о всякой нечисти, хранил в своей душе следы примитивного суеверия. Уже будучи взрослым, он много раз слышал рассказы о том, как умершие приходят во снах к своим близким и обращаются с разными просьбами. К одной вдове муж чуть ли не каждую ночь наведывался с упреком, что она зимой похоронила его, не надев под брюки теплые кальсоны. Перестал приходить только тогда, когда отправила ему исподники в гробу умершего соседа…