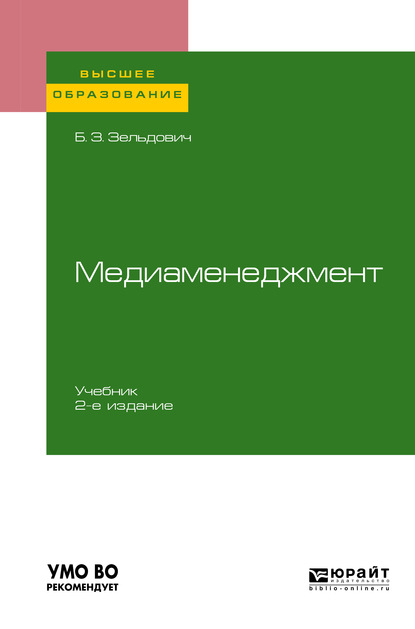Журнал «Парус» №69, 2018 г.
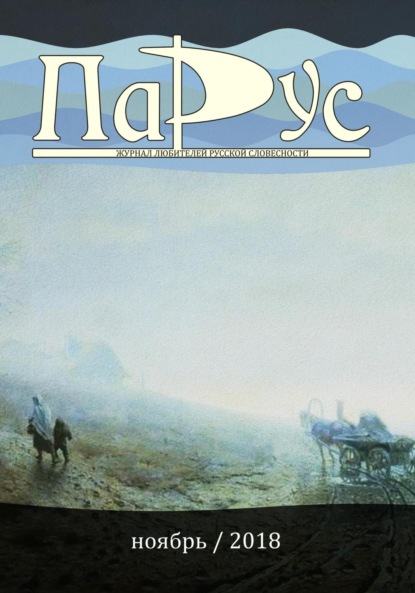
- -
- 100%
- +

Цитата
Иван ТУРГЕНЕВ
В ДОРОГЕ
Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.
Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса звуки любимые.
Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное далекое,
Слушая ропот колес непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.
Поздравляем «Родную Кубань» с 20-летием!
«Парус» сердечно поздравляет русский форпост у южных рубежей Отечества – «Родную Кубань» – и ее главного редактора Юрия Михайловича Павлова с 20-летием журнала!
Неоценим ваш вклад в развитие и сохранение национальной культуры!
Творческого вдохновения, новых талантливых авторов и серьёзных читателей!
Редколлегия и редсовет «Паруса»
Художественное слово: поэзия
Александр ДЬЯЧКОВ. Стихи, которые нельзя читать жене
***
Не знаю, кто тому виной?
Должно быть, сущность человека…
Но держат вместе нас с женой
малышка-дочь и ипотека.
Жена любила, но сейчас
важней всего здоровье дочки.
Я не любил (любил лишь раз,
но, право, это заморочки).
Такой расклад: жена винит
меня за недостаток чувства.
А я уставший инвалид,
в моей душе темно и пусто.
Когда «поют» мне о любви,
мне не нужны ещё примеры.
Но, умоляю, не язви
про слабость православной веры.
Мы веруем, но, между тем,
всё наше пребыванье в Боге
не отменяет ни проблем,
ни лжи, ни злости, ни тревоги.
Не знаю, кто тому виной?
Должно быть, сущность человека…
Но держат вместе нас с женой
малышка-дочь и ипотека.
Дочь подрастёт, жена уйдёт.
Не знаю будет ли ей лучше?
Другой какой-нибудь урод
лапши навесит ей на уши.
А может, всё наоборот:
у ней появится мужчина,
и бывшая моя зачнёт
в придачу к дочери и сына?
Я всё теперь переживу.
Я стал холодным эгоистом.
Продам квартиру и в Москву
рвану читать лит-ру артистам.
А в театральный институт
не попаду – устроюсь в школу.
Туда-то уж меня возьмут,
хоть там пахать не по приколу.
Вложу оставшуюся прыть
в литературную карьеру.
На вечера начну ходить
и графоманов звать к барьеру.
А по ночам, открыв вино,
но честно выпив только чаю,
начну шептать: я мёртв давно,
но чаю, Господи, но чаю…
***
По-настоящему любил
я в этой жизни только раз.
Потом, конечно, этот пыл
позорно сдулся и угас.
И вот живу с одной, другой,
седьмой, четвёртой, двадцать пятой…
Но вывод, выстраданный мной,
едва ль поймёте вы, ребята.
Жить нужно с нелюбимой, друг!
С любимой жить – тупая мода.
Любимая уйдёт – каюк.
А нелюбимая – свобода.
Хотя всё чуточку сложней,
я, к женщинам питая жалость,
любил их всё слабей, слабей,
пока на дне души моей
ни капли чувства не осталось.
И если делать по уму,
то жить мне нужно одному.
На выходных проведать дочку,
подкинуть бывшенькой бабла.
На съёмной хате в одиночку
теперь и жалость сжечь дотла.
ВАНЯ
Из цикла «Наблюдательная палата»
Суицидник не мечется.
Суицидник ждёт случая.
Слава Богу, что лечится
показуха кипучая.
Все твои суицидные
размышленья и доводы —
комары безобидные,
хоть и жалят, как оводы.
Может, мама внимания
не дала в детстве-юности?
Может, эти метания
даже мельче – от глупости?
Ты съезжай от родителей
и без образования
поработай водителем,
стань курьером, мой здания.
Заведи бабу видную миловидную ромбовидную каплевидную,
поживи с этой клушею,
и твою суицидную
хренотень я послушаю.
…Видел, как на свидании
терпит мать твои грубости.
Нет, пока что метания
стопудово от глупости.
***
Я посажу на санки Дашу,
и мы отправимся гулять
по зас…..му Уралмашу,
знакомиться и вспоминать.
Вот это, Дашенька, бараки,
построенные до войны.
Здесь в суете, тщете и мраке
рабочие погребены.
А вот высотки, словно в латах,
торчат в строительных лесах.
Социализм в отдельно взятых
и огороженных дворах.
А это, Даша, проходная,
сюда почти что сорок лет
ходил наш дед, не унывая
(тебе он прадед, а не дед).
А это сквер, и в этом сквере
всё в жизни было в первый раз.
Здесь я задумался о вере,
когда пошёл в десятый класс.
Здесь целовался я впервые
и здесь впервые закурил,
и первые стихи кривые
читал деревьям, как дебил.
А вот дурдом, здесь в два подхода
я перезимовал развод.
Пусть я не вышел из народа,
но здесь спускался я в народ.
Народ… но задремала Даша,
как био-фотоаппарат.
Пойдём домой, там мама наша,
наверно, сделала салат.
Всё то, что серо, стёрто, мглисто,
обрыдло, стало никаким,
для Даши будет самым чистым
воспоминанием святым.
***
Odi et amo…
Катулл
Панельный дом, невзрачные кусты,
просевший снег и голуби, как копы.
И с омерзеньем понимаешь ты,
как далеко ещё нам до Европы.
Но есть мой друг игумен-сердцевед,
и есть мой храм, воскресший в этом морге.
И с гордостью: «Нигде такого нет» —
ты выдыхаешь чуть ли не в восторге.
Короче, ненавижу и люблю,
как в стареньком двустишии Катулла.
Но он писал про женщину свою,
я о стране, стоявшей на краю,
что в пропасть… и от пропасти шагнула.
***
Мне жена говорит: у тебя нет мечты
ни улучшить наш быт, ни прославиться, ты
опустился вконец, ты амёба, ты глист,
никакой не мудрец, а простой пофигист.
Я отвечу жене, правду-матку рубя
(мне хватает вполне возражать «про себя»):
вот покинули б вы вместе с Дашкой вдвоём
в прошлом мой, но, увы, в настоящем ваш дом
на четыре денька… ну, на три… или два…
я купил бы пивка и смотрел бы «Дом 2»,
отключил телефон, снял часы со стены
и отправился в сон видеть странные сны.
…Я от веры в Христа ждал невиданных дел,
за неснятье креста я погибнуть хотел,
жечь людские сердца, всем указывать путь…
Я не знал до конца, в чём религии суть…
Стометровый забег перерос в марафон.
Тем и слаб человек, что сначала силён.
Но кончаются сто первых метров в свой срок.
Я молиться и то ежедневно не смог,
я ходить не сумел ежемесячно в храм,
ни поступков, ни дел! Обывательства гран
в Православии есть, я к нему не готов.
Просто спать, пить и есть, причащаясь Даров?
Нет, покуда я жив и не взят в оборот,
мне подайте порыв, дайте подвиг и взлёт!
Да, меня благодать укрепляла в пути,
но не в силах нести, я могу лишь поднять
крест.
***
Я в юности хотел порока
и целомудренной любви.
Хотел и классики, и рока,
ручья и горного потока…
Чего угодно! Жить бы то(ль)ко
не как родители мои!
Но гнула жизнь своё упрямо,
пружинил я… и, наконец,
преподаватель я, как мама,
и обыватель, как отец.
Не состоялось где-то что-то.
Я не поднялся над судьбой.
И жизнь моя: болезнь, работа
и ссоры частые с женой.
Светлана ДОНЧЕНКО. Творец дождя
РАННЯЯ ОСЕНЬ
Ранняя осень. Жара не сдаётся…
Солнце нещадно палит.
Небо не плачет дождём, а смеётся.
Золотом лист не горит.
Грустно. От пыли кусты поседели.
Птицы лениво поют.
Мысли тревожные вдруг одолели,
Так в голове и снуют.
Счастье осеннее, где заплутало?
Где твой венчальный убор?
Жду. Только сердце немного устало.
Да утомился мой взор…
***
Осенней грусти не испить до дна —
На дне бокала плещутся остатки.
На чувства осень вовсе не бедна,
В ней горечи и сладости – в достатке.
Вот только пьют все отчего-то грусть,
Им кажется она вином столетним.
Заучивают осень наизусть,
Стараясь быть как можно неприметней.
Поют хмельные песни под дождём
И светлой грустью омывают руки.
Вино глотают, закусив ломтём
Большой, холодной, выдержанной скуки…
ТВОРЕЦ ДОЖДЯ
В ненастный вечер плачет дождь осенний,
Роняя слёзы на седые мхи.
И тянет тонким запахом трухи
Подмокших листьев на порожках в сени.
Ждёт небо новых лёгких вознесений.
Да ветер рвёт последний лист с ольхи.
И не осталось никаких сомнений
В том, что ноябрь – великий, редкий гений,
Творец дождя, который льёт стихи.
В ЛЕСУ
Размыт дождями край тропинки,
Заросший бузиной лесной.
Промокли куртка и ботинки,
Рюкзак холщовый за спиной.
Похоже – заблудилась! Глупо
В поход одной уйти с утра.
Под ложечкой заныло тупо:
Ещё и дождь, как из ведра.
Иду, молюсь, прошу тропинку:
«К сторожке отведи меня».
В руке своей зажав дубинку,
Смотрю с тоской… К закату дня
Лес стал готовиться упрямо.
И с каждым шагом всё темней.
Молюсь, молюсь, всё чаще: «Мама!» —
Летит мой зов среди ветвей.
И вдруг – о чудо! – запах дыма
Заполнил сладко ноздри мне.
Ускорив шаг, неустрашимо
Пошла на дух сей в полутьме.
Лесная, чёрная избушка
Почти невидима в ночи…
Тепло протоплена, горбушка
Лежит на полке у печи.
Топчан в углу, подушка с пледом —
Любому путнику ночлег.
И пусть ты мне совсем неведом,
Спасибо, Божий человек!
***
Та пыль, что выбивают кони
В степи под стук своих копыт,
Мне слаще, чем духи в флаконе.
В ней запах страсти!
Не разлит
Он боле на степных просторах —
Как в Божьих росах и дождях,
Как в поднебесных птичьих взорах,
Как в переполненных ручьях,
Тех, что все реки превращают
В моря, бездонные моря!
Ах, отчего так восхищает
Лишь пыль меня, как дикаря!
МЕРА
Отстоялась мутная вода
И прозрачной стала, как слезинка.
Так и очень горькая беда
Временем размоется. Тропинка
Светлой жизни уведёт вперёд,
Следом за надеждою и верой.
И настанет радости черёд —
Бог отмерит самой щедрой мерой!
***
Что ты, осень, бродишь по дворам пустынным
Путницей усталой, без былой красы?..
Что ты потеряла за высоким тыном?
Был он раньше частью лесополосы.
А теперь унылый, весь заиндевелый,
Прячет он незримый цвет иссохших глаз,
Тех, что в прошлом веке тонкий и несмелый
Тополь горделивый от пилы не спас…
Он мечтал родиться в парке том старинном,
Где в осеннем буйстве яркой бирюзы
Сосны, пихты, ели взглядом благочинным
Мигом иссушают проблески слезы.
Что ты, осень, бродишь по дворам пустынным,
Что же не заходишь ты в старинный сад?
Там по тропкам чистым, узеньким, но длинным
Убегает в зиму хмурый листопад…
***
Всю ночь трудился снег и утром
Мой город белым перламутром
Засыпал. И жемчужным блеском
Тропинки к чёрным перелескам
Припудрил щедрою рукою
И берег весь по-над рекою.
Укутал парк гагачьим пухом,
Всем елям – дивным вековухам —
Накинул шубки из снежинок.
Кубанский колоритный рынок
Вмиг превратил в дворец роскошный.
Прекрасен снежный труд всенощный!
Святослав ЕГЕЛЬСКИЙ. Край меловых и рукотворных гор
БЕССОННИЦА
Открывается дверь. И в проёме стоит чернота.
Никогда у меня ещё не было ночи длиннее.
Ну, конечно, сквозняк. Всё равно всё внутри холодеет,
Замирает дыханье невыпущенным изо рта.
Эта ночь, этот страх – сколько будет меня он тревожить?
Не давая уснуть, заставляя смотреть в потолок…
И опять – как ответ – заскрипев – до мороза по коже —
Открывается дверь, как страница с заглавьем «Пролог».
Открывается дверь – и опять я сквозь сон её слышу.
Темнота, загустев, многотонно ложится на грудь.
Пробираюсь к окну – всё равно мне уже не уснуть —
И смотрю на мозаику окон и чёрные крыши.
В небесах, как в груди, бьётся белое сердце луны.
Завороженный мир канул в сон под его аритмию.
Зарождается день – высоко над луной и над миром,
Отражаясь в морях, что безводны и не солоны.
МАКЕЕВКА
Я здесь впервые в жизни счастлив был,
И здесь же – первые узнал печали,
Я бредил горизонтом голубым,
Хоть взрослые его не замечали.
Меня с ума сводили поезда,
Гудящие в неведомых просторах,
Я машинистом стать хотел, когда
Я вырасту (синоним слова «скоро»).
Был детский сад напротив. А левей —
Панельный дом в пять этажей. И тополь
Его, как друг, ладонями ветвей,
Как по плечу, по краю крыши хлопал.
Кузнечики электропередач
Гигантскими прыжками убегали
За терриконы, шахты, мимо дач,
Лесопосадок, автомагистралей.
Расплавленный закат стекал в ставки,
Он застывал в них тёмно-синей бездной,
И день от ночи были далеки,
Как звёзды отражений – от небесных.
Я помню иероглифы ветвей
В прогнувшемся от туч апрельском небе,
И молнии за домом, что левей,
И гром, и мысль, что это движут мебель.
То была первая моя гроза.
И я читал на стёклах строки капель,
Как можем мы порой читать глаза,
И небеса тряслись в грозе, как в кашле.
Гораздо позже я открыл букварь,
И вдруг расширились границы мира:
Теперь в них были школа и бульвар,
И только третьей частью их – квартира.
Я вглядывался в звёзды, как в глаза
Далёкого неведомого друга,
И я, и он – мы были голоса
В какой-то вечной, грандиозной фуге.
Я слушал ночь. Безумьем было спать!
Мной овладела жажда слышать звуки
Машин, шагов, часов, пробивших пять
И снова взявших время на поруки.
Рассвет обычно проскользал сквозь щель,
В неплотно пригнанных друг к другу шторах,
Дневную скуку возвратив вещей.
Я засыпал, поймав последний шорох.
А утром, снова – от избытка сил
Переходя на бег, я предавался
Пути. Через бульвар ползли такси,
И плыли в окнах облака, как в вальсе.
Так было в снег. И в яблоневый снег.
А в тополиный снег всё вдруг менялось.
Ненужным становился этот бег
Мир был накрыт жарой, как одеялом.
И раскалённый город – весь был мой!
С средневековостью копра над шахтой,
Что башней, не один видавшей бой,
Мне виделся, меж облаков зажатый.
Я в нём любил и лабиринт домов,
Своей похожестью сбивавших с толку,
И небо, мутное, как старое трюмо,
Когда том осени снимался с полки.
И мой бульвар, который все шаги
Мои хранит, как буквы – лист бумаги,
Как небо, став без тополя нагим,
Ветвей хранит приветственные взмахи.
Век незаметно пролетит, как миг.
Как пролетают детство, юность, зрелость,
Как исчезают люди меж людьми,
И звезды, что к рассвету догорели.
Лишь нам с тобой исчезнуть не дано,
Пока живу – храню тебя, как дека
Рояля, что хранит аккорд давно
Ушедшего в столетья человека.
Лишь нам с тобой исчезнуть не дано.
Как всеопределяющие вехи,
Как амфоры века хранят вино,
Друг друга будем мы хранить вовеки.
ЦВЕТОК
В сердцевине белого цветка,
В сонном мире влаги и нектара
Отдых от полуденного жара
Наконец нашёлся для жука.
У дорог, на улицах, в домах —
Душно, душно от жары и чада,
А в цветке – рассветная прохлада,
Животворная, как жизнь сама.
В сердцевине белого цветка
Так легко уснуть под шёпот листьев,
И, написанные невесомой кистью,
В тихий сон вольются облака.
В мирный сон вольются лепестки,
Куполом над головой сомкнувшись;
Звёзды – жившие когда-то души —
Будут удивительно близки.
Нежно вздрагивающий их свет
Глупому жуку нашепчет счастье
Быть живой, неотделимой частью
Для планеты, лучшей из планет,
И поверившему им жуку
Будет сниться… много будет сниться!..
И рассвет займётся на границе
С небом – первый на его веку.
И цветок с рассветом станет домом
(Яблочный цветок – уютный дом).
И шептаться будут так знакомо
Листья, только – не понять, о чём.
Будет день. Над морем крон зелёных —
Майский снег – от яблонь к облакам…
И цветок качнётся изумлённо
Вслед летящим в небо лепесткам.
БЕГ
Ты вовлечён в наплыв событий,
Ты загнан под одну из крыш
Многоэтажек. С толку сбитый,
Бежишь по жизни и бежишь.
А дни приходят и уходят,
Как будто дверью ошибясь,
В свои извечные угодья
Сквозь снег и мартовскую грязь.
Ты постигаешь бесконечность,
С балкона глядя в небеса,
Вот в клумбе протрещал кузнечик,
Вот снег, вот первая гроза.
Вот первая твоя морщина,
И седина в твоих висках,
По улицам летят машины,
Как дни, как годы, как века.
За новолуньем – тает месяц.
Мелькнув тарелкою пустой,
Исчезнет, ничего не веся,
Уйдёт, накрывшись темнотой.
И ты исчезнешь, не заметя
Исчезновенья своего —
В мечтах об отдыхе и лете,
С отяжелевшей головой.
Бег кончится. Но в одночасье —
Сквозь листопад, туман и снег
Ты снова побежишь, и счастье
В том, что конечен этот бег.
***
Кто я на свете? Я не знаю сам.
Я лишь разрозненные знаю вещи:
Меня влечёт к полночным небесам,
Как будто ими мне покой обещан.
Я слышу вечность в музыке воды
И в дождевых сплетающихся струнах,
И ночи напролёт её следы
Читаю, будто книгу, в звёздных рунах.
Ещё я знаю: листья так желты
Бывают осенью – от солнца, что впитали,
И улетают, ставши с ним на «ты» —
К нему, за ним – в открывшиеся дали.
Я знаю снег, в лицо летящий мне!
Ему уже я подставлял ладони —
Он был дождём – на острия камней
Он словно упадал в земном поклоне.
Стенная плесень – лунные моря
Дублирует – от края и до края,
И очертанья эти – с октября
В углу, за шторой – это тоже знаю.
Я знаю – в ночь зажжённая свеча
Истает с первым проблеском рассвета,
Ещё я знал – в начале всех начал —
Кто я, зачем… но память стёрла это.
НОЧЬ
Ночь черным-черна.
Этой ночи грусть
Я, как «Отче наш»,
Знаю наизусть.
Зацепил звезду
Гребешком забор:
– Всё равно уйду!
– Забери с собой…
– Да куда забрать?
– В тишину и синь.
– Нет, не выйдет, брат,
Даже не проси.
Тополя луну
Затащили в сеть,
И она в плену,
Но уйдёт от всех.
Облако фонарь,
Будто ржавый гвоздь,
Будто с ним – война,
Проколол насквозь.
Облако дождём
Расплескалось вниз,
На дома – но что
Облаку до них?
На асфальт и в пыль,
В грязь и на траву.
Ты сегодня был,
Завтра – в синеву.
Вспыхнул – лишь на миг
Тусклый свет даря,
Брошенный в камин
Лист календаря.
Вспыхнул – и погас,
Растворен навек
Среди всех богатств
Мира – человек.
Тянется, беля,
К звёздному шатру
Новый день. Земля
Завершает круг.
ОСЕНЬ
Так поздно теплится восток
Над клёном рыжим.
И на ветру дрожит росток
На нашей крыше.
Созвездья капель на стекле,
Рассветы в восемь.
И на обеденном столе —
В вазоне осень.
На пианино и шкафу,
Рыжи по-лисьи,
Сквозь сон – цветы, а наяву —
Букеты листьев.
И кажется, что всё навек —
Берёзы-свечи,
И тот стоящий человек,
И этот вечер.
И ночь, вся в золотых огнях
Пустых бульваров,
И от прохожих и меня —
Обрывки пара.
И будто скалы, облака
Над нашим домом,
Плывут в закаты и века
Судьбой ведомы.
И сталкиваются, и вновь —
На небе чисто.
Не были, были – всё равно —
И вслед им – листья.
И всё ж – не меньше облаков,
Без тех, что стёрлись,
И так же – где-то далеко
Звезда сквозь прорезь.
Луна в прорехе, как портрет
В овальной раме —
Как тысячи и сотни лет,
До нас – и с нами.
ДОНБАСС
Край меловых и рукотворных гор,
Донца и Калки, Игоря и скифов,
В разлуке я с тобой – который год!
Который год мне вместо дома Киев!
Я здесь родился – здесь я жил и рос,
Стоят над жизнью, словно заголовки:
Макеевка, Ханжёнково, Буроз
Черёмушки, Криничная, Щегловка…
Встречают, провожают – тополя,
Выстраиваясь в ровные шеренги,
За горизонт дорогу мне стеля,
Под вечер – в золотистом ожерелье.
И трубы на штыки берут рассвет,
Когда я, оторвавшись от бумаги,
Свободен ото всех земных сует,
Смотрю, как реют облачные стяги.
Из этих окон я смотрел на мир,
Когда ещё огромным мне казался
Тот тополь с листьями, истёртыми до дыр…
Сентябрь прошёл, а тополь, вот, остался.
Из этих окон я смотрю на двор,
И тополь худ январской худобою,
Край меловых и рукотворных гор!
Я – хоть и ненадолго – вновь с тобою.
***
Ночь продирается сквозь окна
Чересполосицей огней,
Дождя, листвы, луны моноклем
На мокрой крыше и над ней.
Ночь отпечатана в созвездьях
Лохматых капель фонарей.
И ни души… Чудно, что есть я.
Застыло всё, как в янтаре.
В квадратах окон пальцы-ветви
Увязли, как в смоле паук,
Воздеты вверх с немым приветом
Метёлки тополиных рук.
И неизбежность пробужденья
Сомнительна. Не верю, что
Подслеповатый день проденет
Свой луч, как нитку, между штор,
Что солнце вновь желтком яичным
Вдруг выскользнет из облаков,
Застыв в полуночи, я лично
Не верю, что во сне легко.
В какую ночь уснул – не помню,
Не помню, как попал к окну,
С луной, висящей многотонно
И вниз струящей тишину…
ОГОНЬ
Развели, чтоб согреться, огонь.
Он метался, просился на волю,
Извивался, как мучимый болью,
И тянулся лизнуть мне ладонь.
Без огня – ничего не увидеть,
Непроглядна вокруг темнота,
Чёрно-белы черты, как в графите,
Испещрившем пространство листа.
Как тепло от руки, от дыханья,
От склонённой ко мне головы,
И теперь не нужна мне другая,
Хоть вчера ещё были на «вы».
Ты садишься ко мне на колени —
Мы устали, теперь отдохнём,
И огонь обнимает поленья,
И поленья трещат под огнём.
Это старая, старая сказка,
И сегодня герои в ней – мы,