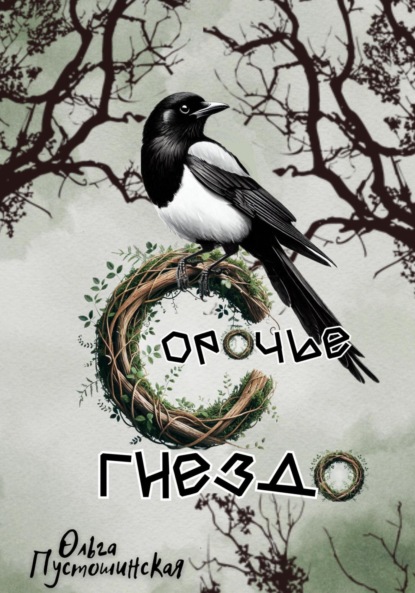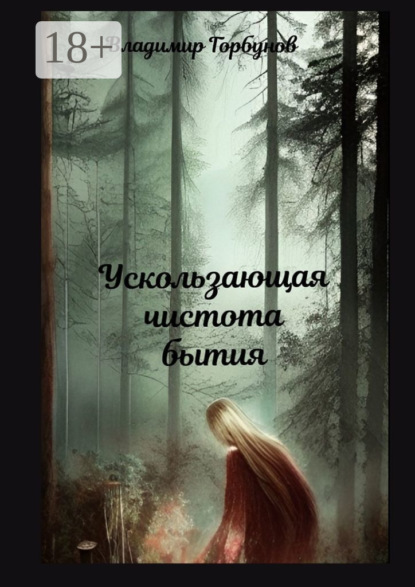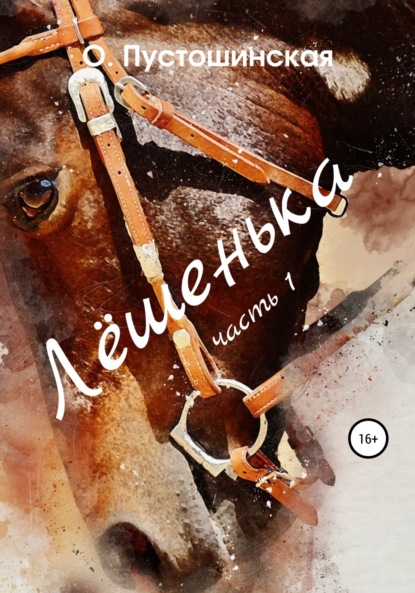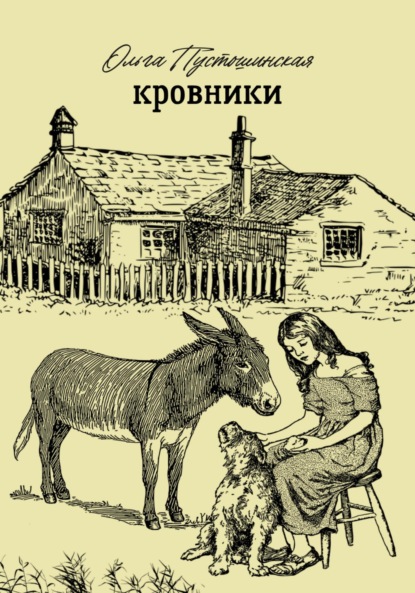Тысяча восемьсот девяносто первый год. На село, где живёт одиннадцатилетний Прошка, обрушивается голод. Прошка теряет сестру и родителей. Где-то в N-ской губернии есть у него дядя Савелий, Прошка одержим желанием разыскать родню. Он уходит из приюта и отправляется на поиски. Но вот беда: адреса Прошка не помнит. То ли в Петровке живёт дядя, то ли в Покровке, то ли в Николаевке. Прошка нищенствует и однажды забредает на заимку, про которую говорят — плохое место. Он кружит по лесу и никак не может вырваться с этой странной заимки.
- Книги
- Аудиокниги
- Вебтуны
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Коллекции
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация