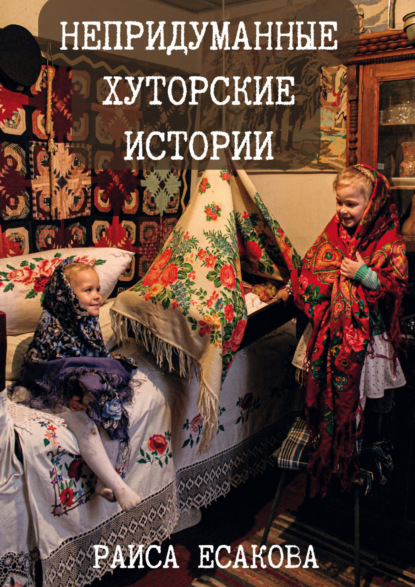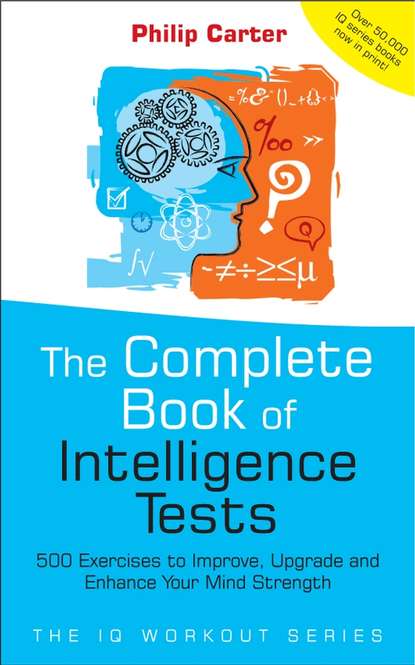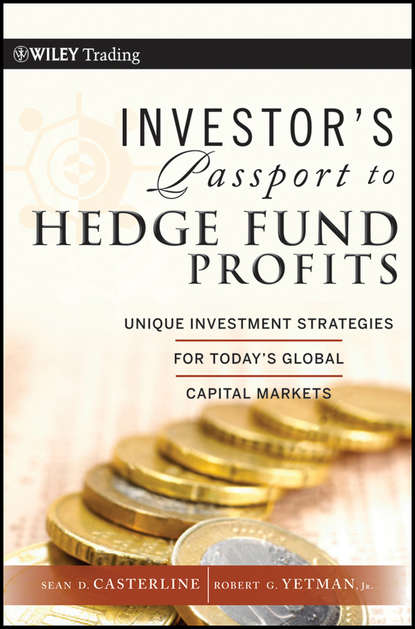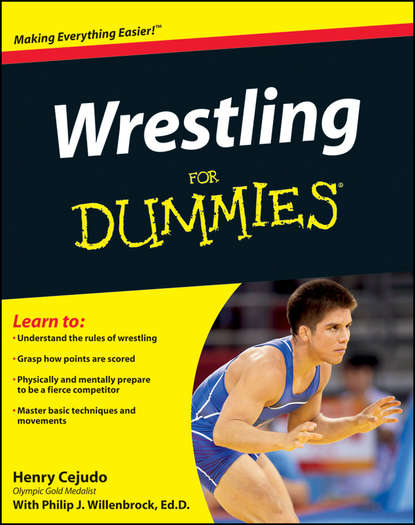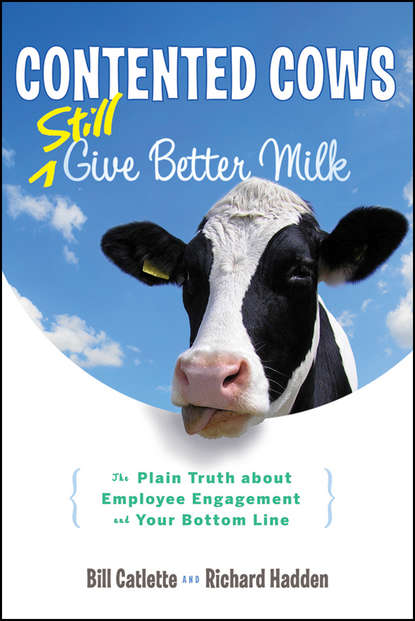- -
- 100%
- +
Мне небезразлична судьба Украины, и я постоянно смотрю по телевизору политические передачи «Право голоса», «Право знать», «Вечер с Владимиром Соловьёвым», если там идёт речь о моей Украине. Смотрят российское телевидение и мои родственники из Житомирской области. Вот что недавно сказал мне двоюродный брат по телефону: «Смотрю на своих соотечественников, выступающих на вашем телевидении, и нет у меня слов для возмущения. Некоторые врут без зазрения совести. А на самом деле грабят страну. А народ стремительно нищает. Такая вот наша правда».
Хочу коснуться ещё больной темы о Крыме. На Украине стараются переписать историю. И не только свою, но и нашу. Они забыли, что в 1783 году Крым был присоединён к Российской империи, до 1954 года полуостров входил состав РСФСР. А вот, что Хрущёв в 1954 году подарил Крым Украине, помнят. Но вот, что подарок был сделан без согласия на то россиян и самих крымчан – без референдума, запомнили наполовину. Крым им подарили – помнят, а что это было сделано незаконно – знать не хотят.
Да, в 2014 году я во второй раз потеряла свою Родину, теперь уже окончательно. В первый раз в войну. Сейчас, когда моя жизнь приближается к закату, острее чувствуется боль от трагедии, случившейся в далёком 1941 году. Очень хотелось последний раз побывать в тех местах, где росли, учились, любили наши родители, посетить могилу отца. Но, видимо, не суждено.

Раздел 2
Память о репрессиях
Восстановим доброе имя
Хочу рассказать о человеке, который заслуживает того, чтобы о нём знали и помнили. Это касается нынешних жителей хуторов Мрыховского и Мещеряковского, чьих дедов и прадедов он спас от голода и неминуемого ареста в далёкие 30-е годы.
Грузинов Сергей Никифорович родился в 1900 году в селе Каменка Кашарского района. Там закончил 4 класса. В 1917 году ушёл добровольцем на фронт. После работал в г. Шахты на руднике им. Октябрьской революции председателем постройкома. В 1932 году в числе двадцатипятитысячников был послан в х. Мрыховский Мигулинского района для создания колхоза. В 1938 году его постигла та же участь, что и многих соотечественников: арест и признание врагом народа.
О его работе по созданию колхоза ходили разные слухи, кривотолки. Но то, что его колхоз стал передовым среди других – это достоверно. Это подтверждали те, кто работал с ним долгие годы. Одним из таковых является Мукасеев Дмитрий Фёдорович. Он записал свои воспоминания о Грузинове С.Н., которые я и воспроизвожу, стараясь сохранить каждое слово.
«В должность председателя колхоза имени Октябрьской революции Грузинов Сергей Никифорович вступил весной 1932 года. Колхоз в ту пору был очень слабым: семенного материала не хватало, продовольственного не было совсем. Техника отсутствовала. В связи с частой сменой председателей колхоза, трудовая дисциплина была слабой. Кадры в бригадах и на фермах не опытные. Колхоз был отстающим.
С первых дней своей работы Грузинов С.Н., ознакомившись с хозяйством, на расширенном заседании колхозного правления сменил руководство на фермах и бригадах, подобрав серьёзные кадры. На этом заседании он сказал: «Мы должны из отстающего вывести колхоз в передовой». Этого он добился, колхоз к 1935 году стал передовым.
Основной тягловой силой в нём были рабочие волы и лошади, на них и выполнялись все сельхозработы. Планы стали выполнять в срок, дневные нормы перевыполнялись. Лучшим колхозникам прямо в полях вручали красные флажки, а отстающим – рогожки. В праздничные дни лучших колхозников Грузинов С.Н. награждал ценными подарками или денежной премией. Трудовая дисциплина в колхозе улучшилась. Люди работали с восхода до заката солнца, а в напряжённый период хлебоуборки днём косили хлеб, вязали в снопы, а ночью скирдовали.
1933 год был неурожайным, голодным. Чтобы сохранить людей, в основном трудоспособных мужчин. Грузинов завербовал их на работу в г. Шахты сроком на 6 месяцев, чтобы к уборке хлеба в 1934 году все вернулись в колхоз. Эта вербовка спасла многих казаков от ареста. А в соседних хуторах в тот год было уничтожено много казаков.
Следующий 1934 год был урожайным. Колхозники получили по 7 кг зерна на трудодень. В тот год колхоз приобрёл 5 машин, появились трактора, колхоз начал набирать мощность. В это время Грузинов С.Н. организовал агитбригаду, откуда-то привёз гармониста, и на конных подводах – из двора во двор – начали закупать хлеб у тех колхозников, у кого были излишки.
Председателем колхоза была организована строительная бригада в составе 30 человек. Начали строить производственные помещения. Построили корпуса для дойного гурта, для молодняка, птичник, свинарник, зернохранилище, а в каждой бригаде, их было десять, построили полевые станы. Там во время сельхозработ колхозники ночевали.
Ещё построили две кузницы; одну в Мрыховском, другую в Мещеряках. В Мрыховском работали кузнецы Иващенко Иван Андреевич, Мрыхин Андрей Маркианович, а в Мещеряках – Пилипенко Михаил Николаевич и Родионов Александр Митрофанович. Вся тяжесть работ по ремонту сельхозинвентаря: плугов (их было больше 100), борон (200 штук), сеялок (50 штук), веялок, всего гужевого транспорта ложилась на плечи этих кузнецов. Их золотые руки всё делали в срок.
В колхозе построили заводы: кирпичный, черепичный, известковый, гончарный. Реализация выработанной продукции давала ощутимый доход. Например: корчажки, махотки возили продавать и менять за зерно в Сталинградскую область. Колхоз креп. В 30-е годы в Сталинградской области, носящей имя вождя, людям жилось немного полегче, у них зерно так не выскребали, как на Дону.
Потом построили свою пекарню, где выпекали хлеб из белой муки. Его выдавали бригадам и фермерам на общее питание из расчета 1 кг в день на колхозника. Люди наелись вдоволь.
Пришло время культурных преобразований. В х. Мрыховском построили клуб, где был создан музыкальный кружок. Для этого приобрели скрипку, мандолину, балалайку, гитару, гармонь. Брались и за благоустройство. В Мрыховском на проезжей части дороги по направлению к школе образовалось болото, ходить детям стало опасно. Грузинов организовал воскресник, на который вышли около 200 человек. И за один день, что называется, всем миром забутили это болото, выложили каменную дамбу протяжённостью в 100 метров.

Грузинов С.Н.
У Сергея Никифоровича была такая натура: всё то, что он приказал, должно быть выполнено безоговорочно и в срок. Как-то в полночь вызывает он всех бригадиров в правление колхоза. Я тогда работал бригадиром бригады № 1, а мой брат Прокоп бригадиром бригады № 2. И мы с ним прибылит первыми по вызову. Прокоп говорит председателю: «Пожара не видим. Что, объявлена воина или ещё что?» На что Грузинов отвечает: «Это я решил проверить вашу дисциплину». И обратился к конюху Алексашке: «Налей братьям по стакану водки. Это их приз, они пришли первыми». Вскоре собрались все 10 бригадиров, дисциплина была железная.
Достал где-то Грузинов невод. Зимой за Доном в озёрах начали ловить рыбу. Улов получался хороший. Рыбу продавали, колхоз выручал большие деньги. Я лично возил продукцию в Миллерово два раза. Продал, как сейчас помню, 4 тонны на 10 тысяч рублей. Подкармливали рыбкой и колхозников.
В 1934 году колхоз отмечал день урожая на Тиховском лугу. Праздник проходил весело, было много спортивных игр. Фотограф Пилипенко Павел фотографировал колхозников большими группами. Было сделано много фотокарточек. Помню, как бухгалтер колхоза Сытин Иван Иванович спросил у Грузинова: «Какие нужно сделать памятные надписи на фотографиях?» Грузинов, не задумываясь, сказал: «Пиши: наши лучшие силы торжествуют в честь выполнения задач перед государством».
Был Грузинов С.Н. очень способен, одарён, развит и политически грамотен».
Эти воспоминания Дмитрий Фёдорович Мукасеев писал, будучи уже в преклонном возрасте. Конечно, многое ушло из памяти, но то, что Грузинов С.Н. был человеком слова и дела – он это запомнил хорошо. И мне очень хочется продолжить рассказ об этом удивительном человеке. С этой целью я обращаюсь к жителям хуторов Мещеряковский и Мрыховский: кто знает и помнит что-либо о нём, напишите мне, давайте вместе увековечим славное имя, не предадим его забвению.

Живет память веками
Прошло почти сто лет с тех трагических кровавых событий, очевидцев которых уже нет в живых, но память людская жива. Потому что нет такой семьи на Верхнем Дону, жизнь которой не была разрушена, покалечена или даже уничтожена в далёком 1919 году, когда казаки подняли восстание против советской власти. Рассказы о тех трагических днях передаются из поколения в поколение.
Всю свою жизнь помнит жительница хутора Громчанского – Прасковья Антоновна Полянская, какая беда обрушилась на неё, 4-летнюю девочку. Что-то смутно запомнила сама, но рассказ деда Никиты она, уже столетняя старушка, может повторить и сейчас.
Семья жителя хутора Громчанского Никиты Захаровича Родионова по тому времени считалась зажиточной, а была, скорее всего, трудолюбивой. Добротный, крытый железом дом, ухоженное подворье с множеством амбаров для зерна, сараев и базов для скота, полных всякой живности. Когда сын Антон уходил на службу в царскую армию, ему купили хорошего коня и всё необходимое снаряжение.
Но настали смутные времена. Сменилась власть, не стало атамана, появились Советы, пошло гонение на церковь. Для глубоко верующего человека Никиты Захаровича Родионова это было странно и страшно.
А тут ещё сын Антон стал часто отлучаться из дому. Оседлает своего рыжего красавца, взлетит птицей на него и был таков. Отсутствовал по нескольку дней. Приедет голодный, грязный, уставший. Обмоется, наберёт харчей, немножко приголубит дочку Полюшку и опять уедет. А потом и совсем исчез. Понимал отец, что что-то затевается страшное. И не его один сын там участник. Но что поделаешь?
В конце февраля – начале марта 1919 года через хутор со стороны станицы Мешковской поехали обозы. На лошадях, на быках ехали целыми семьями, везли добро, гнали скот. Ехали, как тогда говорили «в отступ» за Дон. Никита Родионов решил, что никуда не поедет. Будь что будет.
Вскоре в Громках (хутор Громчанский) появились красные конники. Люди попрятались в свои дома. Боялись. К дому Родионовых подъехал небольшой отряд. Хозяину приказали идти с ними, чтобы показать дорогу на хутор Бирюковский. Довёл Никита Захарович красноармейцев до Бирюков, и командир отряда отпустил его домой, сказав спасибо.
Идёт Никита назад, а в голове одна думка: «Где Антон? Что с ним?» Не доходя до своего дома, он услышал знакомое ржание и увидел, что недалеко стоят несколько красноармейцев и один из них держит за уздечку коня. И конь, и хозяин узнали друг друга. Это заметил боец, державший коня, и спросил:
– Что, дед остановился? Коня узнал?
– Узнал, – ответил Никита Захарович.
– А всадника мы убили. Вон в бурьяне лежит.
И посмотрев на побледневшего Никиту Захаровича, уже с сочувствием в голосе добавил.
– Хочешь, забирай коня.
– Зачем мне конь без хозяина? – ответил Никита Захарович и, переступая ослабевшими ногами, по грязи побрёл домой, обдумывая, как сообщить страшную весть. Но, переступив порог своего дома, он увидел, что на лавке лежит покойница. «Значит, в доме уже два покойника», – промелькнула мысль о голове хозяина дома. Оказалось, сестра жены шла к ним в гости и в прямом смысле перешла дорогу отряду красноармейцев. Её тут же и зарубили.
Следует сказать, что в смутные годы люди часто гибли. И их хоронили во дворах, в садах. Делалось так потому, что на кладбище положено было хоронить со священником, на которых в те времена было гонение.
Обсуждая с домочадцами вопрос о похоронах, Никита Захарович сказал, что сына похоронит обязательно на кладбище, потому что дом могут сжечь, подворье разграбить, а могилу осквернить и стереть с лица земли.
Он пошёл в Бирюки, куда сопровождал красноармейцев, просить у командира отряда разрешить похоронить сына со священником. Командир удивился его появлению, а когда выслушал просьбу посетителя, растерялся. Может быть, почувствовал вину, а может вспомнил своих мать и отца, которые тоже переживают о сыне. И он такое разрешение написал.
Отправился Никита Захарович в церковь в хутор Тиховской. Там тоже находился красноармейский отряд. Войдя во двор храма, Никита увидел дикую картину. Пьяный красноармеец в поповской рясе бегал по двору за плачущей матушкой. Всё это происходило под хохот и свист пьяных бойцов.
Никита Захарович нашёл командира, отдал ему записку, и тот велел привести из подвала священника, куда его закрыли красноармейцы. Босой, одетый в одну исподнюю рубаху, обезумевший от страха и холода священник долго не мог понять, что от него хотят. Узнав, что ему разрешают идти на отпевание покойников, он быстро оделся и вместе с матушкой ушёл от мучителей, благодаря Никите Захаровичу.
Дома Никита Захарович разобрал деревянное крыльцо, сделал два гроба и по всем христианским обычаям похоронил родных на тиховском кладбище. Священник с матушкой ещё некоторое время пожили у Родионовых, не переставая благодарить хозяина за своё спасение. А вот о дальнейшей судьбе семьи священника Полина Антоновна уже ничего не помнит. Помнит она рыжего коня отца и то, что звали его Мальчиком. О той далёкой братоубийственной войне говорит, что это самая тяжёлая война. Война, когда сын не щадит отца, и наоборот. Такой войной эта старая женщин считает войну на Украине. И ей очень жаль безвинно погибших людей.
Вся жизнь в разлуке
Перепелицына Елена Макаровна родилась в хуторе Мрыховском в 1888 году в дружной и работящей семье, каких много было во всех хуторах. Рано вышла замуж за местного казака Бабкина Гавриила Андреевича. Счастливо зажили молодые. В 1909 году родился у них сыночек, а в 1912 – дочка. Но тут казака призвали на службу. Ничего не поделаешь. Собрал он снаряжение, попрощался со своей семьей, взлетел на коня уехал.
А Елене тосковать было некогда: дети, хозяйство. Да и не одна она жалмерка в хуторе, ждут все, дождется и она.
Но вскоре началась первая мировая война, и срок возвращения Гавриила домой отодвинулся на неопределенное время. Донские казаки всегда славились храбростью, служили верой и правдой царю и Отечеству. Не посрамили они Дон и на сей раз. Наверное, в это время и родилась такая песня: «Хотели германцы, чтоб наши казаки к ихнему престолу служить бы подошли».
Елена ждала и молила Бога, чтоб муж остался жив.
А потом наступили непонятные и смутные времена. Во время гражданской войны воевал Гавриил в белоказачьей армии. Иногда приезжал ненадолго домой. В 1919 году участвовал он в восстании казаков на Верхнем Дону. После подавления восстания уплыл на пароходе из Новороссийска со многими своими земляками в Турцию. Но на чужбине они никому не были нужны. Жить было не на что. Иногда удавалось заработать на кусок хлеба.
И однажды приснился Гавриилу сон. Держит он в руках цветок – мак с тремя крупными лепестками. И вдруг один лепесток оторвался и полетел высоко. Проснулся Гавриил и подумал, что кто-то из его родных умер. И действительно, в это время дома от тифа умер его сын.
Затосковали казаки по дому, и многие решили вернуться. Офицеры, понимавшие, что казаков ждет дома, какую расправу учинят над ними, отговаривали их. Но те стояли на своем: умрем, но на своей земле. Когда собравшихся на Родину казаков насильно хотели снять с парохода, многие из них достали оружие. Так и уплыли они домой. И чем ближе они были к своей земле, тем неспокойнее становилось на сердце. С тревогой всматривались казаки в даль.
Вот показались родные берега, на которые свободными им не суждено было сойти. Еще на палубе их окружили вооруженные солдаты и погнали на железнодорожную станцию, где погрузили в товарный вагон и повезли в г. Тихвин, а оттуда на строительство Беломоро-Балтийского канала, где и отработал потом Гавриил Андреевич 7 лет.
А в далеком родном хуторе Мрыховском ждала его постаревшая жена Елена Макаровна и повзрослевшая дочка Марфуша. Они вступили в колхоз, работали не покладая рук. Вскоре в свою семью приняли зятя, мужа Марфуши – Алексея. Сдавали государству все мясо, молоко, яйца, шерсть, кожу. Да случилась беда: в 1930 году не хватило у Елены Макаровны 8 килограммов мяса на сдачу государству. И осудили ее на 3 года, сослали на вольное поселение в Архангельскую область к самому Белому морю.
Надо же было такому случиться – муж был совсем недалеко, соединял Белое море с Онежским озером. Но встретиться в северных краях им не пришлось.
Определили Елену Макаровну в няньки. В семью высокого тюремного начальника, где и проработала она все 3 года, хозяйка была строгая, называла ее только по фамилии Бабкина, но Елена Макаровна все сносила, лишь бы выжить. Из дома ей писали, что у нее родилась внучка Валя.
Тем временем по амнистии домой вернулся муж Гавриил Андреевич. А через полгода после него и сама Елена Макаровна вернулась.
Слава Богу, встретились через много лет! Но не тут-то было. Недобро местная власть встретила Гавриила Андреевича, и вскоре его опять посадили. Сидел в тюрьме он теперь в средней Азии.
Вернулся домой отец семейства в 1936 году, а тут опять неспокойно. Подсказали ему однажды тайно добрые люди: «Гавриил, скройся куда-либо, иначе тебя снова посадят». И он ночью ушел. Устроился на работу в Луганской области, где жило тогда много мрыховцев, развозил хлеб по магазинам на лошадях. Зная, что дома семья голодает, с оказией или по почте посылал домой продукты. Потом к нему приехала дочка с семьей, следом за ней приехала и Елена Макаровна. Вся семья соединилась. Вроде зажили, но вскоре началась Великая Отечественная война. Решили вернуться в Мрыховский. Но как только вернулись. Гавриила Андреевича снова арестовали. Только летом 1942 года он вернулся домой. Теперь уже на совсем.
Эту историю двух людей с искалеченной судьбой рассказала мне их внучка Валентина Алексеевна Любимова. «Это мои бабуня и дедуня», – говорит она, раскладывая фотографии на столе.
Говорит она о них с такой любовью, что кажется, обнимает дорогих ей людей.
– Молодая я тогда была, не додумалась записать рассказы дедуни. Было бы, что почитать сейчас. А он мне очень много рассказывал. Жаль, что многое не сохранилось в памяти. В германскую войну дедуня был награжден четырьмя крестами. Был в звании подхорунжего. Немцев не щадил. А когда служил в белоказачьей армии, в русских стрелял только в крайнем случае, всегда старался не попасть. Говорил дедуня и о том, чта Беломоро-Балтийский канал построен на костях человеческих. Сколько там погибло людей! Со слезами всегда рассказывал о тоске по Родине в Турции. А бабуня всегда Богу молилась за то, что ее определили в няньки, иначе бы сгинула она. И надо же: всего за 8 килограммов мяса! Очень любила я слушать, как поют бабуня и дедуня. У обоих были сильные красивые голоса. Мама тоже пела. Наверное, их дар передался и мне, я тоже люблю петь. Пела и в Мрыховском хоре, когда он только создавался.
Особенно помнится мне из детства случай. Вечер. Дедуня лежит на кровати, бабуня прядет, мама вяжет. И вот тихонько бабуня заиграла песню «Всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон», мама подхватила. Дедуня берет в руки веревку, которая подвязана к жердке над кроватью, с ее помощью поднимается, и его голос сливается с женскими. Невольно подпеваю и я.
Пели они всегда с душой. Если песня протяжная, то слезы катились из глаз, а если плясовая, ноги сами просились в пляс.

Гавриил Матвеевич
Жалко мне их очень. Только в старости они и пожили вместе. Дедуня умер в 1959 году, на 5 лет пережила его бабуня. Похоронили их рядом. Теперь они уже вместе навечно.
«Бабушка и внучка» подумает каждый, посмотрев на эту фотографию. Нет, это совершенно чужие люди, но когда-то так нужные друг другу. Младшей нужен был уход, забота, а старшая выжила не сгинула в заснеженной тундре только благодаря этой маленькой девочке, смогла вернуться домой. К родным и увидеть свою родную внучку.

Елена Макаровна в ссылке в г.Архангельске
Стихи, написанные кровью
Сердца
Последнее время по телевидению часто можно увидеть передачи, посвещённые русским эмигрантам или их потомкам за границей. Среди них много донских казаков, которых вынудили покинуть родиой край и не по своей воле скитаться на чужбине, тосковать, нести лишения.
Недавно я прочитала стихотворение, посвящённое эвакуации казаков из Крыма.
Уходили мы из КрымаСреди дыма и огня! —Я с кормы всё время мимоВ своего стрелял коня!А он плыл, изнемогая,За высокою кормой,Всё не веря, всё не зная,Что прощается со мной!Сколько раз одной могилыОжидали мы в бою!Конь всё плыл, теряя силы,Веря в преданность мою!Мой денщик стрелял не мимо! —Покраснела чуть вода…Уходящий берег КрымаЯ запомнил навсегда!Автор этих пронзительных строк является выдающийся поэт казачьего зарубежья – Николай Николаевич Туроверов, родившийся в 1899 году в станице Старочеркасской. Участник первой мировой войны, в гражданскую войну воевал на стороне белых. В период Великой Отечественной войны сражался против фашистов в рядах французский армии. И вот ещё его стихотворение, при чтении которого глаза застилают слёзы.
Больше ждать и верить, и томиться,Притворяться больше не могу.Древняя Черкасская станица, —Город мой на низком берегуС каждым годом дальше и дороже…Время примириться мне с судьбой.Для тебя случайный я прохожий,Для меня, наверно, ты чужой.Ничего не помню и не знаю!Фея положила в колыбельМне свирель прадедовского краяДа насущный хлеб чужих земель.Пусть другие более счастливы, —И далекий неизвестный братВидит эти степи и разливыИ поет про ветер и закат.Будем незнакомы с ним до гробаИ, в родном не встретившись краю,Мы друг друга опознаем оба,Всё равно, в аду или в раю.Созвучны этим проникновенным строкам стихи другого поэта казачьего зарубежья Петра Фёдоровича Крюкова, находившегося в эмиграции во Франции с 1920 года. В годы Второй мировой войны он сражался в рядах французского сопротивления. В послевоенное время редактировал журнал «Казачье единство», составлял книжки «Казачьего литературного сборника». Похоронен во Франции.
Родных степей моих просторыИ синь родной Донской волныНапрасно ищут мои взоры,Тоской по Родине полны.Закован цепью гор чужбинныхИстосковавшийся мой взор.Чужих пейзажей чужд картинныхСтепей безбрежный ореол.Крылатой мыслью улетаюНа тот простор Донских равнин,Где всё люблю, где всё я знаю,Где средь людей я не один.И если мне судьба такая —Погибнуть здесь, в чужой стране,Последний вздох, земля Донская,С душой своей пошлю тебе.И если жизнь моя погаснет,И смолкнет лиры моей звон —Любовь в душе лишь не угаснетК тебе, Великий Вольный Дон!Этими стихами авторы выразили не только свои чувства, но боль, тоску, отчаяние многих таких изгнанников, которые, может быть и встретятся со своими близкими «в аду или в раю». Несомненно, эти стихи навсегда останутся памятником тем, кто сгинул на чужбине.
Сыновья – ее богатство
Встретив свою учительницу где-либо, её бывшие ученики обязательно спросят: «Как здоровье, Валентина Ивановна?» А она, поблагодарив за внимание, шутливо ответит: «Да сегодня хуже, чем вчера, но зато немного лучше, чем будет завтра». А потом уже добавит: «Что теперь за него говорить. Годы неумолимы, они берут своё».
Да, ей сегодня восемьдесят. И что удивительно в этом возрасте (а это случается не только с ней), можно не помнить, что ты делал вчера, но прекрасно помнить своё детство, юность, все те печали и радости, трудности и невзгоды, которые были на твоём жизненном пути.
Детство её закончилось очень рано. Наступил 1937-й год. В стране проводились повальные аресты. Докатилось это бедствие и до такого далёкого, маленького по тому времени, хутора Мещеряковского. Вся семья Ткачёва Ивана Андреевича жила в ожидании какой-то беды. Боялись, а может быть, чувствовали, что не минет их эта участь. 19 января (на Крещение) к подворью Ткачёвых на лошадях подъехали два милиционера. На санях вместе с ними сидел Иван Андреевич. Взяли его прямо на работе, в Тиховском сельпо, где он служил счетоводом. Домой завезли попрощаться с семьёй и взять одежду. Вошли в дом. Жена Ивана Андреевича Серафима трясущимися руками начала собирать на стол, чтобы покормить мужа и милиционеров. Мать Дарья Яковлевна больная лежала на печке, к ней жалась испуганная младшая дочка Рая. Отец Андрей Егорович стоял не шевелясь, будто потерял дар речи. А старшая дочка Валя быстро стала спиной к покрашенной краской стене, на которой она вчера написала крестик. Она боялась, что за этот крестик арестуют отца. Неумолимы, они берут своё.