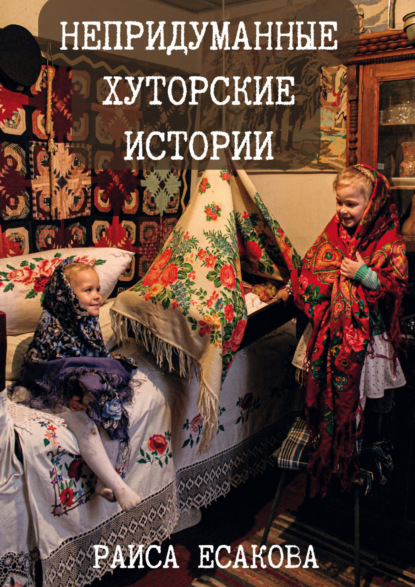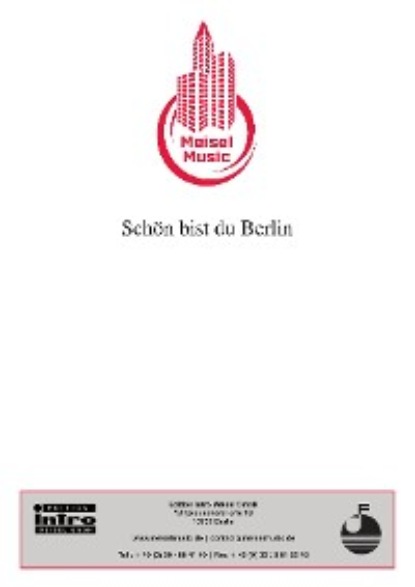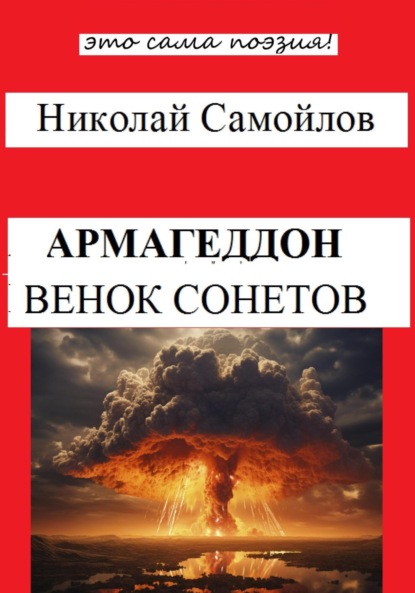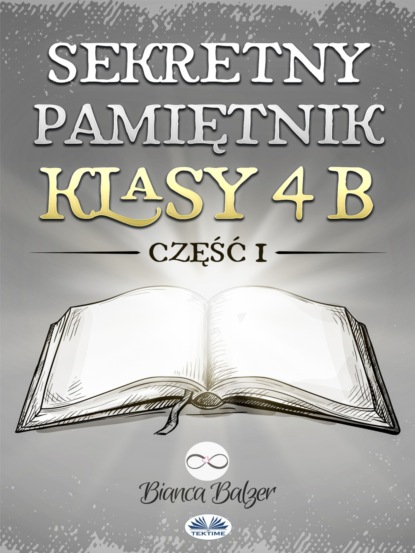- -
- 100%
- +
О чём думал Иван Андреевич, сидя последний раз за своим столом, глядя на перепуганных родных? Может, мысленно прощался с ними, а может, клял свою судьбу и того, кто придумал эту «человеческую мясорубку». Он встал из-за стола, подошёл к полке с книгами, одну из них отложил в сторону. Это была история марксизма-ленинизма. Хотел взять её с собой, но ему не разрешили. Тем временем Серафима приготовила ему одежду. Он оделся, начал прощаться с семьёй. Кинулись к отцу детишки, обхватили отца ручонками, и невозможно было их разнять.
Слезла с печки Дарья Яковлевна, подошла к сыну, протянула руки к нему, чтобы обнять, и упала на пол, потеряв сознание. Кинулся сын к матери, но приезжие взяли его под руки, быстро вывели на улицу, посадили в сани и уехали. Выбежали все, кроме Дарьи Яковлевны, на улицу и увидели удаляющиеся сани да огненно-красный закат на небе, будто предвещавший что-то недоброе.
На этой же неделе, в субботу, Серафима на санках по Дону повезла мужу продукты в Мигулинскую, где содержали заключённых. Пришла к вечеру, её, конечно, не пустили, а утром сказали, что мужа увезли в Миллерово. И надо же такому случиться! Всех заключенных, а среди них много мещеряковцев везли через Мещеряки. И Иван Андреевич смог последний раз увидеть всех, кроме жены. По счастливой случайности у него в Миллерове жили родственники, которые могли его навещать, носить передачу и брать в стирку его бельё. За всё время Иван Андреевич смог в белье передать семье 10 писем. И в каждом сообщалось, что ещё не было ни одного допроса. Просто сидел и ждал своей участи. Потом он передал родственникам всю свою одежду, не для стирки, просто чувствовал свой конец. А Серафима в июне поехала в Миллерово в надежде встретиться с мужем. Но встретиться на этом свете им было не суждено.
В тюрьме утром 5 июня 1937 года ей сказали, что его нет, он выбыл. Из последнего письма, родственники поняли, что его нет в живых. Этим же летом конфисковали имущество в семье Ткачёвых. Забрали недостроенный дом (из него в х. Подгорском построили клуб), тёлку, свинью, овцу, ружьё и всю одежду Ивана Андреевича. А семье сообщили, что осудили его по 42 статье, о которой они, по сей день ничего не знают.
Письма его родители долго хранили в иконе. Но в 1942 году было сильное половодье, у Ткачёвых размыло хату, и икона исчезла. Чтобы узнать о судьбе Ивана Андреевича, его дочь Валентина, уже будучи взрослой, обратилась в органы КГБ города Ростова в 1956 году. Там ей ответили, что Ткачёв Иван Андреевич был осуждён тройкой КГБ и приговорён к расстрелу, а в последствии реабилитирован из-за отсутствия состава преступления.
Да, детство этих девчонок – Вали и Раи кончилось после трагического события. Они стали детьми врага народа. А в хуторе таких детей было много. До сих пор помнит Валентина Ивановна новогоднюю ёлку в 1938 году. Она отличница. В списке отличников и хорошистов, который висит на стене, её фамилия первая. Только вот учительница в своём выступлении фамилию эту не назвала. А когда начали раздавать детям новогодние подарки, Вале Ткачёвой опять ничего не дали. Уткнулась она в колени матери, плачет, а мать – сама бесправная, молча глотает слёзы, чтобы не показать их дочери. Не выдержал сосед Плахов Андрей Афанасьевич, подошёл к ёлке, снял яблоко-игрушку, оторвал небольшой кусок самодельных цепочек, подошёл к Вале, отдал ей яблоко, на шею повесил ей цепочки, а кулёк с конфетами своего сына разделил пополам, отдав одну часть Вале. И это только один случай. А когда они учились в Тиховской семилетке, там даже родители требовали от директора удалить из школы детей врагов народа.
Но труднее всех пришлось Серафиме Матвеевне. Молодая, красивая женщина в 30 лет стала вдовой врага народа. Кто не хотел, тот и не обидел. Обидчиков же было много, а она, бесправная, должна была молча всё сносить. Многие мужчины добивались расположения красивой женщины. Некоторые, особенно с «портфелями» нагло домогались её. Получив отпор от женщины, они затаили злобу, начали мстить: оскорбляли, давали непосильную работу. И если бы не добрейшие её свекора, вряд ли она могла бы с детьми выжить. Работала она на быках с темна и до темна. И только эти старики понимали её, жалели её загубленную жизнь, старались всячески облегчить её участь. Детишки за бабушкой, как утята за уткой, ходили работать и на огород, и на капустник, и яблоки собирать, а потом сушить. Питание на зиму готовили они сами. А Андрей Егорович работал в колхозе качественником (вроде агронома), был ещё при силе, держал корову, сам косил сено. Корова в те годы была кормилицей семьи. Оберегая друг друга, пережили трудные годы войны. Вот как вспоминает сама Валентина Ивановна: «Мои деды – бабуня и дедуня помогли маме вывести нас в люди. Потеря сына для них великое горе, но они держались, крепились, оберегали нас. Бывало с бабуней полем огород, она сорвётся и бежит в кукурузу, откуда ей послышался голос сына, зовущей её, а слышался он ей постоянно. Заплачет бабуня, прижмёт нас к себе, скажет: «Всё равно выдюжим». И выдюжили. Дедуня умер в 1948 году, мне уже было 20 лет, а бабуня тремя годами раньше. Как я им благодарна за тёплое отношение к нашей маме! Она была для них не снохой, а дочкой».
В 1946 году Валя закончила Мигулинскую среднюю школу. В дальнейшей её судьбе сыграл важную роль её дядя, забрав её в г. Макеевку, где она закончила педкласс учителей начальных классов, после окончания которого стала работать учителем начальных классов в Громчанской начальной школе. Потом ее перевели работать учителем русского языка и литературы в Н-Тиховскую семилетку. Рая тем временем с отличием закончила Вёшенское педучилище, и сёстры вместе поступили в Ростовский пединститут на заочное отделение филологического факультета.
В 1951 году Валя вышла замуж за Засидкевича Николая Ивановича, а в 1957 году перешла на работу в Мещеряки, где была открыта семилетка, а потом и средняя школа. Тут она и проработала всю свою жизнь, совмещая работу, учёбу, рождение и воспитание своих детей. У неё трое сыновей. Не обходилось без трудностей, но семья была очень дружная, муж помогал во всём. Обжившись, они построили себе дом. Серафима Матвеевна жила вместе с ними. К этому времени она была тяжело больна. Трагедия 1937 года с её дальнейшими последствиями, непосильный труд надломили здоровье, и она слегла, больше не поднявшись. В 1985 году её не стало.
В своей работе педагогом Валентина Ивановна придерживалась всегда одного принципа – материнское отношение к ученикам. Видя грубость кого-либо из коллег по отношению к ученику, она в вежливой форме поговорит с учителем, постарается убедить его в несправедливости. Ну уж если кто-то с ней не согласится, «полезет в пузырь», то она обязательно даёт свою оценку коллеге: «Эх, вы – не матери!» Причём произнесет эти слова так, что человек задумается о справедливости этих слов.
Часто Валентина Ивановна вспоминает своих учеников. И ни об одном из них не сказала ничего плохого, только хорошее, и что-нибудь казусное. Однажды на уроке литературы, видя, что один из учеников совсем не читал произведения Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», она поднесла ему книжку и попросила найти в ней место, где описан Яким Нагой. Работая с другими учениками, она заметила, что мальчишка судорожно листает книжку взад-вперёд. Валентина Ивановна подошла и спросила: «Ну, что, Лёша, нашёл, что я просила?» «Валентина Ивановна, я всю книжку пролистал, но никакого тут Акима с ногой нет», – ответил тот недовольным голосом.
Вот так вместе с чужими детьми воспитывала, учила и своих сыновей. Старший Сергей один из моих учеников – всегда был гордостью школы, после окончания которой поступил в Харьковское высшее военное училище, закончив его с отличием. Долгие годы служил он в городе Козельске Калужской области, а потом в самой Калуге. Там же получил второе высшее юридическое образование, которое ему пригодилось, когда он ушёл в запас. Сейчас он работает одним из заместителей мэра города. У него прекрасная семья – жена Татьяна наша казачка, две дочери, есть уже и внук Мишутка, и долгие годы живёт в его семье теща, что довольно редкий случай в нынешнее время.
Очень хорошо учились в школе средний сын Николай и младший Павел. Это тоже мои ученики Николай закончил политехнический техникум, а потом заочно институт. Живёт в Украине. В его семье тоже две дочери. А Павлика с детства влекла морская стихия. Он закончил Ростовское мореходное училище имени Седова, некоторое время бороздил моря и океаны, но на сушу его позвала любовь, причём со школьных лет к своей однокласснице, да так и «присушила» его в Мещеряках. Закончил он Зерноградский институт, получил другую профессию – инженер-энергетик. Сейчас он предприниматель.
Это один из сыновей, который живёт близко от родителей, он во всём для них «скорая помощь». У всех троих этих теперь уже мужчин есть в характере одна общая черта – удивительная заботливость о родителях. Их родители ни одного дня не бывают без внимания детей. Ежедневные звонки, частые приезды, совпадающие с неотложной работой на отчем подворье: посадка и уборка огорода, ремонт дома и т. д. Всё это сыновья забота. А Сергея не удовлетворяют телефонные звонки. Он пишет письма на несколько листов, где подробно описывает жизнь своих домочадцев, такой же ответ ждёт и от родителей.
В дни рождения родителей, по праздникам сыновья всегда собираются в отчем доме. А последние годы и у Валентины Ивановны, и у Николая Ивановича появились большие проблемы со здоровьем, оба часто лежат в больнице, но, наверное, любовь сыновей и поднимает их на ноги. Прошлой зимой отвезли в районную больницу Николая Ивановича, плохо ему, захандрил, упал духом. Приехали Сергей и Николай. «Нет, отец мы тебе умирать не дадим, повезём в Ростов», – твёрдо заявил Сергей. Повезли, там ему сделали операцию, и всё это время с ним в больнице находился Павел, которому-то и достаётся больше всех. Но он не ропщет.

Иван Андреевич с семьей
И вот на юбилей матери собрались все сыновья с жёнами. Нет, они приехали не только посидеть за праздничным столом, они приехали заранее, чтобы накрыть его, подготовиться к приёму гостей. Привезли с собой много продуктов. Невестки Таня, Люда, Наташа и внучка Оля постарались на славу. Кроме того, они еще и купили праздничный наряд имениннице, нарядили её, а старшая невестка Таня, оглядев свекровь, заметила: «Мама, вы у нас сегодня самая красивая». А она, действительно, светилась счастьем от такого внимания к ней и выглядела по-особенному красивой.
Сергей Николаевич на правах старшего сына был распорядителем этого торжества, он просто не отходил от матери. Я смотрела на него, и мне казалось, что он не может наглядеться на неё. Поздравляя мать, он произнёс волнующие слова: «Живите долго нам на радость, ведь пока вы живы, я не чувствую свои года, хотя я тоже уже дед. Приезжая к вам, я всегда слышу слова «сынок», значит, я ещё молод». Обращаясь к родителям, второй сын Николай Николаевич тоже попросил их жить долго, собирать своих сыновей почаще: «Хоть «иностранец», и приехать к вам не так-то просто, но я всегда еду в родной дом с радостью, живите долго, о плохом не думайте, мы вас в беде не оставим».
Блестят на глазах матери слёзы радости, и она тут же сетует, что больше всего хлопот с ними достаётся младшему Павлику. На что Павел Николаевич тут же возразил: «Нет, дорогие мои родители, вы мне не в тягость. Это мой долг. И если бы не вы, разве смогли бы мы собраться вот такой большой семьёй вместе?»
Много тёплых поздравлений и добрых пожеланий услышала Валентина Ивановна в тот день. Закончился праздник. Уехали сыновья. А она живёт воспоминаниями и ждет следующей встречи, хотя по телефону разговаривает с сыновьями что ни день, да и Павел забегает часто. Перечитывая поздравительные открытки, она особое внимание уделяет трём из них.
Вот в рамке под стеклом благодарственное письмо от внуков и правнуков:
«Благодарим мы бабушку,Благодарим мы дедушкуЗа хлопоты, за ласки,За песни и за сказки,За вкусные ватрушки,За добрые игрушки!»Вот открытка любимой бабушке от внучки Юли, на которой есть фотография её семьи и слова: «Я так люблю тебя, бабуля, такая в мире ты одна!»
А вот стихи сыновей, посвящённые матери. Одним куплетом из них я и хочу закончить свой рассказ:
«Так поживи ещё, родная,И поддержи ты нас чуток,Чтобы при встречах, обнимая,Мы, слышали:«Как ты, сынок?»»
Всем смертям на зло
Удивительным свойством обладает память человеческая. Казалось бы, что всё очень просто: чем старше человек, тем слабее память у него о прошлом. Ан нет, всё наоборот. Знаю по себе, что можно забыть, что было вчера, а вот события прошлых лет прочно сидят в голове и их ничем не затмить. И со мной согласен герой моего рассказа, которому в настоящее время 96 лет. Прочитав в газете рассказы о восстании казаков, о раскулачивании, о расказачивании, он словно воочию просмотрел документальный фильм о своей жизни.
Рождение молодой семьи
Родился Филипп Михайлович Тимофеев в 1913 году в хуторе Бирюковском. Семья его состояла из четырех человек: мать, отец, бабушка и он.
Помнит он хорошо, как жили они единолично. Было у них своё хозяйство: рабочие быки, лошади, коровы, сельхозинвентарь. И как вспоминает Филипп Михайлович: «С организацией колхозов распалась наша семья и назвали нас кулаками. К тому времени я закончил 4 класса, работал дома на своей земле вместе с родителями».
В 1933 году семью Тимофеевых раскулачили, отца посадили, а представители комитета бедноты выгнали бабушку, мать и Филиппа из дома, а всё имущество, продукты конфисковали. Куда было деваться людям? Приютить их никто не решался, все боялись Сибири. Бабушка пошла, «куда глаза глядят», да так и сгинула. Мать отправили на работы в х. Калмыковский. А Филипп пристроился жить на воловне, там же и работал. Было холодно и голодно, а впереди неизвестность, ждал выселения в Сибирь. Помощь пришла неожиданно. Одна хуторянка, у которой остановился на квартиру приезжий уполномоченный из Москвы, попросила своего постояльца помочь молодому парню. А тот посоветовал пристать Филиппу в зятья к какой-нибудь бедной казачке. К какой бы тот не обращался, получал отказ: все боялись выселки. Но одна не побоялась. Бирючкова Настя пришла на воловню и сказала Филиппу: «Хочешь, пойдем ко мне жить – что будет, то и будет. Я ничего не боюсь, согласна с тобой и в Сибирь ехать».
«Пожалела меня моя спасительница, спасла от выселки, так и прожили мы с ней 55 лет», – рассказывает Филипп Михайлович.
«Да нет, не пожалела, а полюбила, наверное, а потом уже и спасла», – подумала я, слушая его рассказ.
По тюрьмам
Так и зажила семья молодая, хотя годы были трудные, а Филипп был гол как сокол. Работал в колхозе, кто куда пошлет, а тут прилепилась кличка «враг народа», многие старались уколоть, оскорбить. Послали однажды Филиппа везти зерно из Мешковской в Чертково на быках. Было всего 8 подвод. И хотя среди командированных были и взрослые казаки, ответственным назначили Филиппа. Зима была забойной, а у него и обуть нечего. Увидел он у соседа свою полсть, которую тот забрал во время конфискации имущества. Пошёл Филипп с поклоном к соседу. «Дядя, отрежь мне кусок полсти, я себе бурки сошью, ведь отморожу ноги», – попросил он соседа. Отрезал тот кусок ползти, а сосед дедушка-чеботарь за ночь сшил бурки Филиппу.
Поездка в Чертково была очень трудной. Ещё не доехали до места, а корм для быков кончился, да и харчишки у людей на исходе. Приехали в Маньково. Пошёл Филипп к председателю колхоза просить соломы для быков, тот разрешил взять солому, которая находилась в степи в скирдах. Всю ночь Филипп, с двумя женщинами копали снег, добывая корм для быков, а когда вернулись на квартиру, где оставили свой обоз, то обнаружили, что два мешка зерна украдены. И виноватым, конечно, оказался ответственный – Филипп. Тут вспомнили, что он «враг народа» и, конечно, он украл это зерно и продал. Дали ему 10 лет. «И пошёл я по тюрьмам», – с горечью вспоминает Филипп Михайлович. Сидел он в тюрьме в г. Таганроге, но недолго. Вскоре годы заключения были заменены одним годом принудительной работы там же, в Таганроге.
Военные годы
Вернулся Филипп домой и опять начал работать в колхозе. В 1935 году у него родился сын Василий, но в двухлетнем возрасте мальчика парализовало, и остался он калекой на всю жизнь, что стало болью и большим горем для родителей на всю жизнь. А в 1937 году Филиппа забрали в армию. Отслужив два года, опять вернулся домой и работал в колхозе. В 1940 году у него родилась дочка Фаина.
Когда началась война, Филиппа сразу забрали на фронт. Воевать ему пришлось на трудных участках фронта. Одна Сталинградская битва чего стоит. За зиму 1942–43 годов не видел Филипп даже теплого помещения, кругом снега и снега. «А сколько товарищей полегло, – вспоминает он, – мало нас осталось. За освобождение Сталинграда я был награждён орденом «Отечественной войны» и двумя медалями «За отвагу». Каким-то чудом остался жив». А после Сталинградской битвы была еще Курская дуга, где Филипп Михайлович был тяжело ранен. Почти год он лечился в госпитале города Ижевска, где ему ампутировали ногу, а домой он вернулся на протезе и с костылем в 1944 году.
Дома сидеть не пришлось, не позволила совесть сидеть на шее у жены, которая была замучена работой в колхозе и домашними заботами о хозяйстве, о детях. Определили его на работу заведующим водяной мельницей, которая в то время была кормилицей всего хутора. А задача заведующего состояла в том, чтобы мельница всегда была в рабочем состоянии. Долгие годы кормил Филипп Михайлович людей. «В голодные военные и послевоенные годы, вместе с зерном приходилось молоть и жабрей, и жёлуди», – вспоминает он прошлое. В 1946 году у него родилась ещё одна дочка Аня. Жизнь постепенно налаживалась. А когда отпала необходимость содержать водяную мельницу, и когда вместо колхозов появились совхозы, Филипп Михайлович стал работать учётчиком в тракторной бригаде, где трудился долгие годы.
Работа в совхозе
Работая в совхозе, стали получать зарплату, стало жить легче. Дети выросли, дочери создали свои семьи. Остался Филипп Михайлович с женой Анастасией Никифоровной и с сыном Василием, за которым они всю жизнь ухаживали, продлевая ему жизнь. Всё вроде неплохо у дочерей, появились внуки у Филиппа Михайловича. Но вдруг страшная беда, какой врагу не пожелаешь. Трагически погибли дочь Аня с мужем. Мне кажется, нет большего горя, чем горе родителей, потерявших своих детей. Но выдержал Филипп Михайлович, надо жить, жить ради внуков-сирот, их было двое восьми и десяти лет. Забрали дедушка с бабушкой внуков домой и растили, отдавая им всю душу и тепло сердец своих. Опять, как со своими детьми школа, уроки, потом еще проводы в армию. Да ещё и работал Филипп Михайлович в совхозе. Когда стало уже трудно работать учётчиком (ведь он на протезе), перешел в бухгалтера, а потом старшим рабочим. Работал, старался помогать внукам. И даже после выхода на пенсию он ещё 12 лет стоял в должности завтока. Только вот через десять лет после гибели дочери случилась ещё одна беда. «Умерла моя спасительница, похоронил я её в 1988 году, не выдержало её сердце. Пришлось мне одному доводить внуков до конца, и женил я их, и правнуков дождался», – дрожащим голосом рассказывает Филипп Михайлович. Остался он с сыном Василием, за которым теперь уже ухаживал сам. Рядом живёт дочь Фаина, помогает во всём, как может.
В 2002 году умер Василий. И остался Филипп Михайлович один. «Осталась у меня одна дочка, а ещё 5 внуков и 11 правнуков. Ко мне старику 96 лет все идут в гости, почти все живут возле меня, но всё же одному очень плохо жить», – подытожил Филипп Михайлович рассказ о своей судьбе.
«Бог даёт мне жизни»
Я часто встречаюсь с Филиппом Михайловичем. Да почти каждую пятницу он сам на своей «Оке» привозит на базар кого-нибудь из родственников. И хотя его односумов уже не осталось на белом свете, он всегда окружён людьми, которые гораздо моложе его. Подходят к нему, здороваются, вспоминают совместную работу в тракторной бригаде, на току. Он со всеми приветлив, разговорчив, а главное бодр, не унывает.
Приехал он в Мещеряки и на 9 мая на праздничный концерт, празднично одет, а на груди награды. Ему сразу вручили букет цветов, а у Филиппа Михайловича на глазах блеснули слёзы, слёзы горечи и радости… «Хоть и отняли мне ногу, а я 65 лету хожу почти на одной ноге, и бог мне даёт жизни и здоровья».
Дорогой Филипп Михайлович, этого тебе желают все твои хуторяне: здоровья и долгих лет.

Красный террор на Дону
Ещё за год до подписания этой директивы главный палач донских казаков Свердлов, он же Янкель Мовшевич Розенфельд, вот как определил свою задачу в деревне: «Только в том случае, если мы сможем расколоть деревню на два непримиримых враждебных лагеря, если мы сможем разжечь там ту же гражданскую войну, которая не так давно шла в городах, если нам удастся восстановить деревенскую бедноту против деревенской буржуазии, – только в том случае мы сможем сказать, что мы и по отношению к деревне сделаем то, что смогли сделать для города».
Исполнителем этой задачи стал 20-летний член Реввоенсовета 8-й армии Иона Эммануилович Якир. Он приказал уничтожить полностью всех казаков, имеющих оружие. Расстреливались даже старики, старухи, дети. Кого расстреливали? Тружеников-земледельцев, кормильцев и защитников России.
О кровавых днях большевистского террора на Дону Филипл Кузьмич Миронов легендарный казак, участник Русско-японской и Первой мировой войн, командир 2-й конной армии красных писал: «Коммунисты своими злодеяниями вызвали на Дону поголовное восстание. Кровь, теперь пролитая на Дону, проливается под дикий сатанинский хохот новых вандалов, воскресших своими злодеяниями времени средневековья и инквизиции. Население стонало от насилий и надругательств. Нет хутора, станицы, которые не считали бы свои жертвы красного террора десятками и сотнями. Дон онемел от ужаса».
Вот читаю это, а в голове сидит одна и та же мысль: «Это мы не проходили, это нам не задавали». Да, историю я учила добросовестно, и нигде, никогда не читала ни о красном терроре на Дону, ни о восстании на Верхнем Дону, ни об искусственном голодоморе. Но обо всём этом я слышала от своей бабуни. Правда, она не знала слов «террор», «голодомор». Но помнила хорошо, как красные вырубали целые семьи. Особенно хорошо помнила восстание казаков в марте 1919 года, когда сгинул её семнадцатилетний сынок. И теперь-то я считаю, что напрасно с ней спорила, доказывая, что красные хорошие (иное определение я не могла придумать). А она, стоя на своём, приводила мне горькие примеры: «Мой двоюродный брат Иван Дрынкин выехал со двора на лошади верхом, а красные окружили, зарубили его шашкой, втоптали в грязь и уехали. За что? Жила у нас в хуторе семья оседлых цыган. Так вот, эти твои «хорошие» зарубили всю семью, не пожалев даже детей».
Не зря в народе говорят: «Правда, что шило в мешке – не утаишь». И хотя очевидцев того страшного времени уже нет в живых, но люди из поколения в поколение передают и рассказывают обо всех тех злодеяниях, причинённых их семьям.
Вот такой страшный рассказ слышала от своей бабуни Любимова Валентина Алексеевна: «Мою родную сестру, молодую красивую женщину Перепелицину Веру Макаровну красные сожгли заживо, у неё была длинная коса. Её раздели догола, косой привязали на базу к верее, облили керосином и подожгли на глазах у родных».
Не секрет, что большинство казаков наших хуторов принимали участие в восстании. Некоторые отступали, забирали с собой семьи. Но в основном в хуторах оставались женщины и дети. На них-то и отыгрывались красные. Забежал один из таких в дом Сушкиных в х. Мрыховском, и, не найдя никого из мужчин, а, может, по другой причине, замахнулся шашкой на хозяйку дома Федосью, женщину сильную и смелую. Спасая лицо от удара, та прикрылась левой рукой, а правой сумела вырвать у него шашку. Замахнулась на него, но зацепилась шашкой о косяк двери, а вояка этот, лишившись оружия, сразу убежал из дома, убежала и Федосья в левады, спряталась в камышах.
В большой семье Меркуловых в х. Мещеряковском казаки тоже были в отсутствии. Дома женщины, дети да больная старушка. Так и ее не пощадили, потащили её с постели, стянули и перину, под которой увидели мужские галифе с красными лампасами. Вот рубанули её шашкой, правда, не насмерть, но пожила после удара бедняга недолго.
Всё складывалось благополучно у молодой девушки из х. Мещеряковского Мещеряковой Марии Матвеевны. Вышла замуж в х. Бирюковский. Попала в большую зажиточную семью, где было пятеро сыновей, трое из которых женатые. Перед восстанием они уехали в Ростов. Свекора жили в большом курене, крытом цинковой жестью, а сыновья с жёнами размещались в пекарке. Было большое хозяйство, все работали. Но, как говорится, земля слухом полнится. Когда начался массовый террор, по хутору поползли слухи один страшнее другого: зажиточных казаков истребляют, за укрытие хлеба расстрел, за спрятанное оружие – расстрел и т. д.