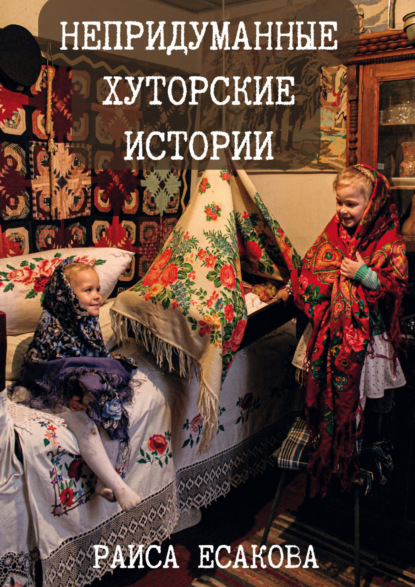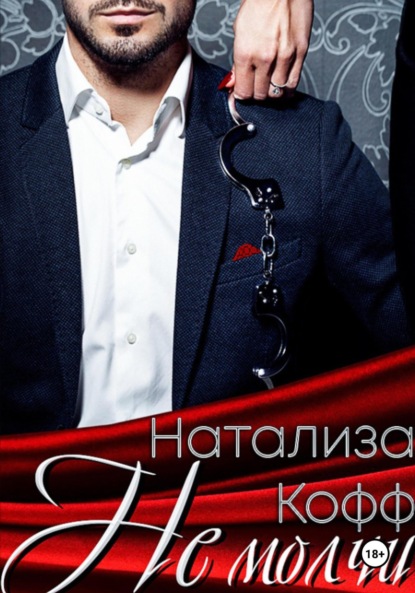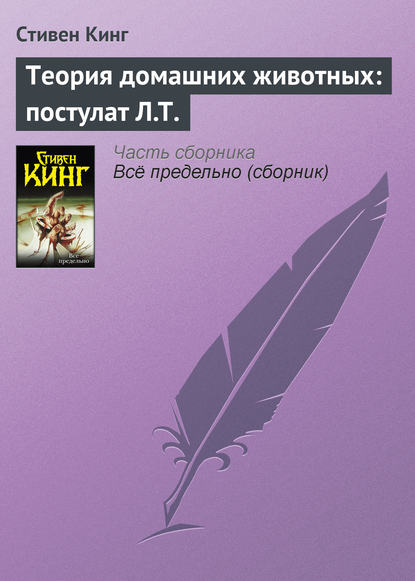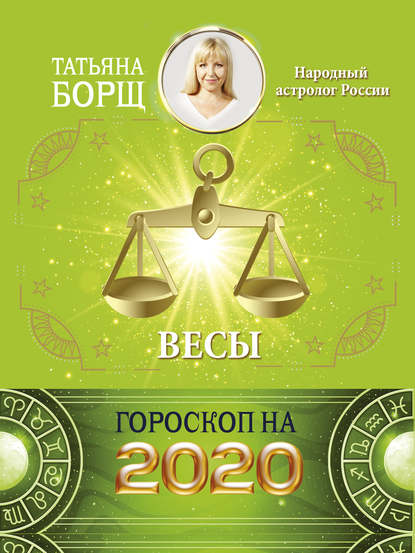- -
- 100%
- +
Молодые казаки этой семьи присоединились к восставшим казакам Верхнего Дона. Старики, боясь расправы, погрузив на подводу самое ценное, уехали, надеясь найти убежище у родственников в х. Тиховском, а снохам приказали сторожить подворье. У Марии был грудной ребёнок, и она знала, что её родители из Мещеряков отступили за Дон, ей идти было некуда. Две другие снохи родом из Мешковской убежали к родителям. А вечером во двор на лошадях въехали красные. Разместили коней в большой конюшне, нашли там и корм для них, сами заняли дом. Испуганная Мария стояла, ничего не соображая, и прижимала к груди ребёнка. Один из прибывших, видимо, командир, приказал готовить им ужин, а потом, внимательно посмотрев на неё, сказал: «А ночью будешь спать со мной, не захочешь со мной, будешь спать со всеми». Растапливает Мария печь, а сама в панике: «Что делать? Будь что будет! Лишь бы меня и моего дитя оставили в живых». И вдруг на улице послышался крик: «Тревога!» Выскочили красные из хаты, одеваясь на ходу, вскочили на коней и были таковы. А Мария, завернув ребёнка в полы своей шубейки, побрела из своего дома, наугад в сторону Тиховского, надеясь найти там свекоров. Было уже темно, снег набрался водой, и она не шла, а брела по воде, под которой был лёд. Переходя речку у х. Громчанского, поскользнулась и выронила ребёнка в воду. Пока, обезумев, искала его в воде, вся намокла. Нашла, но он уже захлебнулся…
Побрела она домой, прижимая к себе холодное тельце ребёнка. Пришла утром, вся обмёрзшая, растопила печку, чуть обогрелась. Днём смастерила ящик, положила в него ребёнка и целый день в слезах просидела над ним. Ночью в доме оставаться побоялась, как чуяло её сердце, ушла в канюшню и спряталась в сене. Конечно, она не спала и слышала, как среди ночи опять приехали конники, звали её, искали, но не нашли. Переночевали, а утром рано уехали.
Поутру Мария садами, левадами, минуя проезжую дорогу, пошла в Мещеряки, родительский дом, где увидела выбитые окна и двери, раскрытые ворота пустующих базов и катухов, а во дворе летающие по воздуху и оседающие на землю, деревья, крыши пух и перо из распоротых и разбросанных по двору перин, подушек.
О зверствах красных по отношению к казакам можно рассказывать и рассказывать.
С кем бы ни поговорила на эту тему, каждый что-нибудь да знает о судьбе своих предков. И если бы была жива моя бабуня, не знавшая ни одной буквы, я бы ей сказала: «Прости меня, моя милая бабунюшка, ты была права.»
Тоска по сыну
При крещении её нарекли Александрой. Но всю жизнь звали Алесей: Алесенькой в детстве, потом тётей Алесей и бабой Алесей. Родители её Дрынкины Иван Петрович и Домна Ивановна были зажиточными людьми, а точнее, работящими. Они имели огромную усадьбу, много скота. Со всем этим управлялись сами, работников не имели. Было у них три сына: Василий, Иосиф, Виктор, дочь Салмонида и последышек Алеся, поздняя радость родителей, а особенно Ивана Петровича.
Он души в ней не чаял. Во всём потакал, баловал: не захотела идти в школу – ну и не надо. Вон, братья живут без грамоты, работают прилежно, поженились. Двоим Иван Петрович выстроил дома, Василия оставил при себе, Салмониду выдал замуж в хутор Вяжа.
Алесю, хотя и любили все, но с раннего детства приучали к домашнему труду. Рано научилась прячь шерсть, вязать не только чулки-носки, но и кружева. Научилась и орудовать всем крестьянским инвентарём: рогачами, чаплей, лопатой, вилами, граблями, кнутом. К семнадцати годам девушка расцвела, похорошела, заневестилась. И приглянулся ей чернобровый, чубатый казак Емеля Дерябкин. Долго скрывала она свое чувство, а потом призналась матери.
Домна Ивановна долго крестилась, а потом начала уговаривать Алесю выбросить думки из головы:
– Бог стобой, дочушка, забудь ты его, он тебе не пара. Ведь ты же знаешь, что их дразнят «гулевыми», потому что он дюже гулящий парень, все жалмерки его.
– Емеля дюже красивый, и никто мне больше не нужен!
Тогда мать решила бросить последний козырь:
– Да семья-то их лядащая, посмотри, у них ни сада, ни огорода нет путёвого. И худобы во дворе нет. Как же ты будешь там бедствовать?
– А мне батя всё даст, вот увидишь, я его упрошу! – сказала Алеся.
Как долго бы ещё спорили мать с дочерью? Но узнал обо всём сам Иван Петрович. Сначало он допросил жену.
Потом приступил с допросом к дочери, но та заплакала, бросилась в ноги к отцу. Насупил брови Иван Петрович и замолчал. Ходил темнее тучи несколько дней. Все в доме затихли. А он неожиданно для всех дал своё согласие и благословил дочь, богатое дал приданое. Сияла от счастья Алеся. Жила она с мужем и свёкорами в их неказистой хатёнке, но ей всё там было мило. Через год родила сына Ванюшу, потом дочку Дуню и ещё одну Раю.
Пока были живы свёкора, всё вроде в доме было ладно. Но вот их не стало, и загулял Емеля. Завёл себе ухажёрку в другом конце хутора и больше времени проводил у неё. Как обычно, с семьёй повечеряет, достанет из печки горящие угли, возьмёт большой гвоздь, который всегда лежал у него на припечке, нагреет его, накрутит свои усы, перед осколком зеркала, вмазанным русскую печку, расчешет чуб, наденет набекрень шапку, на плечо накинет полушубок, откроет ногой дверь и ушел до утра…
Иногда Алеся не выдерживала, выбегала вслед, но он тогда останавливал, когда грубым окриком, а когда и кулаком. Плакала она, лёжа в постели с детьми, которые, как могли, её успокаивали. Вот тут Алеся и поняла смысл слов матери, которая не раз ей говорила: «У некрасивого на ручке полежишь, а красивому вслед поглядишь».
За издевательство над сестрой не раз её братья мяли Емеле бока. Помогало, но ненадолго. Сколько бы это продолжалось – неизвестно. Но тут начались перемены. Что творилось в стране, Алеся не знала, но скоро в хутор явились какие-то новые люди с красными бантами. Произносили непонятные ей слова: восстание, революция, комитет, красные, красноармейцы, советы.
Не стало в хуторе атамана, появилась другая власть. Изменился и муж. Пропадал он из дома теперь надолго, уезжал на коне, ничего не объясняя жене. Иногда появлялся ночью грязный, завшивевший, набирал харчей и опять уезжал. А однажды приехал и забрал с собой Ванюшку, которому шёл восемнадцатый год. Закричала Алеся, просила мужа не трогать сына, не увозить его. Но Ванюшка сам захотел ехать с отцом.
Тревога за сына поселилась в сердце её надолго. Алеся не спала ночами, вглядываясь в темноту, ждала: вдруг придёт сыночек. В марте 1919 года муж с сыном неожиданно появились, быстро запрягли в бричку быков, собрали кое-какие вещи, в основном одежду и продукты, погрузили и всей семьёй отправились к Дону, переправились на пароме на левый берег и поехали дальше…
Что было потом, Алеся не помнит. Очнулась в чужой хате, наголо остриженная, рядом сидели плачущие дочки. Не было ни быков, ни вещей. Она заболела тифом, и муж оставил её и дочек на попечение чужих людей. Больше она мужа сына не видела. Пешком вернулись они домой, где было всё разграблено.
Жизнь для Алеси разделилась на две половинки: до восстания и после. До – у неё был сыночек, а после – его не стало. Вспоминала ли она мужа? Да. За всё она его простила, но только не могла простить за сына. Зачем он его увёл? В душе теплилась надежда, что Ванюшка вернётся.
И всё-таки последнюю весточку о своём сыне она получила. А привезла её жена двоюродного брата Дашка, которая отступала вместе с мужем. Рассказала, что отступили казаки до города Новороссийска, там погрузились на пароход, который должен был плыть в Турцию. Отправления не было несколько дней, и Дарья сошла на берег что-то купить. А когда вернулась, пароход отплыл, и казаки стояли на палубе, махали ей фуражками. Среди них был и Ванюшка.
Жила Алеся с дочками, работали все в колхозе. Мысли о сыне никогда не покидали её. Смотрела на его сверстников и представляла, каким бы он был теперь. Пристально вглядывалась в каждого незнакомого прохожего: может, сыночек мой?
Началась война. В хуторе появилось много беженцев, в основном женщины с детьми. Теперь уже баба Алеся жалела их, чем могла, помогала. А когда одна из женщин умерла, оставив троих детей, баба Алеся со своими дочками взяли на воспитание девочку Раю. И всю свою нерастраченную нежность и любовь баба Алеся отдала обретённой внучке. Вот кому она изливала свою душу, рассказывая о своём сыночке, а та оказалась очень благодарной слушательницей.
Теплилась надежда, что по окончании войны вернётся и её сыночек. Но нет, не вернулся. Несмотря на годы, баба Алеся по возможности, особенно летом, работала в колхозе. Однажды из Мигулинской, где тогда был районный центр, в колхоз приехала женщина – представитель райкома. На плантации, где в основном работали старушки, она стала записывать, у кого из них погибли сыновья. Таких оказалось много. Записав всех, она обратила внимания на бабу Алесю, которая сидела с окаменевшим лицом: «А у Вас, бабушка, все живы?» «Нет, у меня пропал сыночек Ванюшка» «Когда?» «А когда эти чертяки красные шли».
Испуганно вскрикнула бригадир Арина Зотьевна: «Ну, что ты мелешь, тётка Алеська?!» И уже просящим тоном обратилась к приезжей: «Вы уж простите её, ради Бога, помешалась она в своём горе».
Та понимающе кивнула головой и обратилась к бабе Алесе: «Бабушка, вы только так никому никогда не говорите, ладно?» Та опустила голову, и слёзы закапали из её глаз.
Доживала свой век баба Алеся с младшей дочкой. Давно выросла внучка, но бабу Алесю не забывала. Всегда присылала что-нибудь вкусное. А однажды прислала посылку конфет. Баба Алеся высыпала, получилось полное ведро.
Умерла она в возрасте 87 лет. Была в памяти. Глядя на плачущую дочь, сказала: «Не кричи, ведь я скоро увижусь с Ванюшкой».
P. S. В биографическом словаре «Участники Белого движения в эмиграции», составленном Сергеем Владимировичем Волковым (www.bfrz.ru), нами была обнаружена следующая информация о казаке Иване Дерябкине:
Дерябкин Иван, р. 1900. В Донской армии казак в л. – гв. Атаманском полку до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на ледоколе «Илья Муромец». В эмиграции служил в Русском Корпусе.
За этими скупыми строками судьба казака: Крым, Чаталджи и Лемнос, Югославия, служба в Русском корпусе в 1941–45 годах, возможная эмиграция в США после его сдачи… Царствие Небесное казачке, не узнавшей ничего о сыне на этом свете.
Автор публикации и есть та самая девочка Рая, которую баба Алеся взяла на воспитание в тяжёлое военное время.
В память о казаках
В 2011 этом году исполнилось 92 года верхнедонскому казачьему восстанию.
Эту трагическую дату своей истории казаки Верхнего Дона 12 марта отметили по традиции в станице Шумилинской, где в 1919 году вспыхнуло пламя казачьего гнева. Митинг памяти, посвящённый годовщине восстания, прошёл у памятного креста в станичном сквере. В митинге приняли участие члены казачьих обществ Верхне-Донского юрта и других юртов Верхне-Донского округа, старшеклассники Шумилинской школы, местные жители. Перед собравшимися выступили: атаман Верхне-Донского округа Н.И.Вечёркин, атаман Верхне-Донского юрта А.Г.Болдырев и гость нашего района житель Нижнего Новгорода И.А.Калеганов – страстный энтузиаст и поклонник донского казачества, принятый Донским казачьим кругом в казаки. Выступавшие призвали казаков служить Дону и России так, как служили их предки, помнить тех, кто пал в борьбе за лучшую долю для своего народа. Представители казачьих обществ возложили венки к памятному кресту и салютовали ружейными залпами. Завершила торжественную часть панихида по всем убиенным казакам, которую отслужил настоятель Свято-Никольского храма отец Владимир.
По окончании митинга памятное мероприятие продолжилось в Шумилинском доме культуры. В зале демонстрировалась фотовыставка «Тихий Дон и Вёшенское восстание 1919 года». В её экспозиции были фоторепродукции иллюстраций к роману «Тихий Дон» казачьего художника Королькова, фотоматериалы о казаке Харлампии Ермакове – прототипе шолоховского Григория Мелехова и о различных этапах истории и возрождения казачества. Во время казачьего собрания историк-краевед казак из станицы Вёшенской А.П.Копылов подробно рассказал о ходе Верхнедонского восстания. В свою очередь атаман округа Н.И.Вечёркин вручил грамоты благодарственные письма наиболее отличившимся казакам за их вклад в движение по возрождению казачества, а атаман Черкасского округа И.А. Капустин наградил памятной медалью «20 лет возрождению казачества» казачьего краеведа-общественника из хутора Мещеряковского П.Е.Есакова. Продолжил встречу, посвящённую казачьей истории и судьбе, показ документального фильма «Золото банды Фомина», повествующего о малоизвестных событиях гражданской войны на Дону.

Беспокойное сердце дочери
Взявшись за восстановление доброго имени репрессированного в 1937 году Колычева Ивана Николаевича, его дочь всегда верила, что отец был порядочным человеком.
Нина Ивановна Колычева пришла к нам с просьбой дать ей газету «Искра» с рассказом о репрессированных мещеряковцах, среди которых значилось и имя её отца. Выглядела она взволнованной, но, несмотря на годы и только что перенесённую дальнюю дорогу из Владивостока, где она живёт с давних пор, очень энергичной. Чувствовалось, что ей необходимо выговориться, и я попросила рассказать о своей судьбе.
Родилась Нина Ивановна в 1935 году, отец её в ту пору работал учётчиком в тракторной бригаде. Родом был из хутора Меловатского. Мать Ирина Северьяновна тоже работала в колхозе, да ещё воспитывала четверых детей, среди которых Нина была младшей. Жили очень бедно, а главное голодно. А в 1937 году арестовали Ивана Николаевича. Арестовали, назвав врагом народа, и расстреляли, как и многих других мещеряковцев. Что же ожидало женщину с четырьмя малолетними детьми в ту тяжёлую годину? Голодная смерть, конечно. Посильную помощь оказывал председатель колхоза С.Н.Грузинов, но его самого в 1938 году смолола та же «мясорубка». И бедной женщине больше помощи было ждать неоткуда. Чтобы спасти детей, Ирина Северьяновна отправила сына Ивана к сестре Дуне, проживавшей в г. Азове, а маленькую Нину увезла в Луганск другая сестра Феня. Одному Богу известно, как мать отрывала от своего сердца этих двух кровиночек, но иного выхода не было. Осталась она с двумя сыновьями Алексеем и Павлом. Когда началась война, Нина с тётей Феней приехали в Мещеряки, и все стали жить вместе. В 1942 году, когда хутор заняли немцы, в одну неделю умерли от тифа Ирина Северьяновна и Павел. После освобождения хутора Алексей ушёл на фронт, Нина пошла в школу, жила с тётей Феней. На всю жизнь она запомнила одну фразу, которую тётя ей повторяла много раз: «Нина, говори всем, кто тебя будет спрашивать об отце, что он у тебя умер». И Нина это помнила долго. Она знала, что в Азове живёт брат Иван, а Алексей, придя с фронта, обосновался в Ростове. Он-то и забрал к себе Нину, когда неожиданно умерла тётя Феня. В Ростове Нина закончила торговый техникум, немного поработала, а потом с подружкой решили уехать далекодалеко «поискать счастья». Так она попала во Владивосток, где и живёт по нынешний день.
Может быть, на новом месте не всё сразу получалось хорошо, но молодость брала своё. Интересная работа, продолжение учёбы, служебные командировки в столицу, любовь, замужество, рождение дочки – всё это заполнило её жизнь. Всё вроде хорошо, если бы не одно «но».
Где-то в глубине души остались затаённая боль невысказанная обида, чувство большой и невосполнимой утраты. Всё это её угнетало, не давало покоя. И хотя она помнила наказ тёти Фени, но ведь в хуторе было очень много таких детей, как и она. И ещё общаясь в школе, они, конечно, хоть шёпотом, но говорили о своих отцах. Потом старшие братья Иван и Алексей рассказывали ей всю правду об отце. Бывая в отпуске в Мещеряках, многое узнала она о репрессии в 30-х годах на Дону от своих двоюродных братьев, отец которых разделил участь её отца. И Нина решилась рассказать о судьбе своего отца мужу, который и посоветовал взяться за восстановление его доброго имени.
И осенью 1964 года Нина обратилась в органы КГБ г. Владивостока. Попала на приём она к женщине, которая очень внимательно, с пониманием выслушала сбивчивый, несколько раз прерываемый рыданиями, рассказ молодой женщины, помогла написать заявление, в котором дочь написала: «…надеюсь на сообщение, что мой отец был порядочным человеком». Заявление было отправлено в г. Ростов, и начались для Нины томительные дни ожидания.
Потом Нину пригласили в КГб и вручили документы, касающиеся судьбы её отца. Из них она узнала то, что и надеялась узнать: «Постановление тройки НКВД по Азово-Черноморскому краю от 5 августа 1937 года в отношении Колычева Ивана Николаевича отменено, и делопроизводством прекращено за отсутствием состава преступления. Колычев Иван Николаевич – реабилитирован».
Позже побывала Нина и в органах КГБ города Ростова, взяла копии недостающих документов. И вот эти документы передо мной. Я, чужой человек, читая эти бумаги, не могла сдержать слёз, а как же вынесло сердце дочери? Вот протокол обыска, где опись изъятых вещей и документов – военный билет… И всё. Из протокола допроса ясно, что Колычев И.Н. и другие мещеряковцы: Ткачёв И.Л., Мрыхин Г.В., Меркулов И.Я., Меркулов И.И. были оговорены двумя обвиняемыми по другим делам (не указываю их фамилии – Бог им судья).
Колычева И.Н. и других осудили за то, что они якобы были участниками контрреволюционной организации, призывали казаков к восстанию, вредили колхозу, посещали нелегальные сборища. Есть выписка из протокола тройки НКВД по Азово-Черноморскому краю от 5 августа 1937 года: «Колычев И.Н. обвиняется в том, что, являясь участником контрреволюционной повстанческой казачьей организации, призывал казаков к восстанию против советской власти и вредить в колхозах. Постановление: Колычева Ивана Николаевича расстрелять».
Выписка из акта: «Постановление тройки НКВД по Азово-Черноморскому краю от 5 августа 1937 года о расстреле Колычева И.Н. приведено в исполнение 9 августа 1937 года в 23 часа».
Есть среди документов свидетельство о смерти Колычева И.Н, только не указано место смерти. Есть справка о признании Колычевой Нины Ивановны пострадавшей от политических репрессий, и здесь же перечень льгот, на которые она имеет право. Но разве можно заменить живого отца какими-то льготами? И в душе Нины Ивановны так и осталась боль несправедливости за загубленную жизнь тридцатидвухлетнего отца. Очень хотелось ей узнать, где же последний приют родного человека, но это оказалось невозможным. Рядом с могилой матери на кладбище в Мещеряках она сделала могильный холмик, над которым оплакивает безвинно убиенного отца. Потом в Азове рядом с могилой брата Ивана сделала ещё могильный холмик. А когда умер её муж, она и рядом с его могилой в г. Владивостоке сделала ещё один могильный холмик. Так и молится дочь в трёх местах за упокой души своего отца.
А в местный музей Нина Ивановна передала копии всех документов, касающихся судьбы отца. Наши потомки должны знать о страшных событиях 30-х годов, происходивших на Дону. Знать, помнить и не допустить их повторения.

Встреча с царем
«А мой папа видел царя во время службы в ^Новочеркасске», – сообщила мне как-то моя приятельница Крекина Александра Максимовна, с которой мы в добрых отношениях уже более 50 лет. Я посмотрела на нее удивленно и недоверчиво. А она добавила: «Не только видел, но даже и фотографировался с царем».
«Может, у тебя и фотография есть?» – спросила я.
«Есть», – был ответ.
«Почему же ты молчала до сих пор?» – возмутилась я.
Слезы блеснули в глазах Александры Максимовны, и она, преодолев волнение, сказала: «Моего отца жизни лишили не знаем, за что. И мама всегда боялась потерять еще и сыновей. Поэтому фотография почти век пробыла в подполье».
Из мешка, привязанного в сарае за переруб, извлекли большую фотографию, наклеенную на картон. На ней изображены 106 казаков, царь Николай II, императрица Александра Федоровна, царевич Алексей и его гувернантка. Рядом с царской семьей сидит Фомичев Максим Венеевич – отец Александры Максимовны. Конечно, от долгого хранения фотография подпортилась, ведь она сделана в начале двадцатого века. Еще в мешке были 2 фотографии Максима Венеевича с сослуживцами. Там же хранилась небольшая книжка, подаренная ему царем, в которой напечатаны молитвы, святцы и несколько фотографий царской семьи.
Глядя на фотографию Максима Венеевича – бравого, статного казака, не хочется верить, что жизнь его оборвалась так несправедливо и чудовищно. Да разве только его одного? Такая участь постигла многих казаков Верхнего Дона.
Родился он в 1889 году. Было у него еще два брата. Даже когда у всех троих появились свои семьи, жили вместе с родителями в одном доме.
Семья была работящая, имели свое хозяйство, которое сами обрабатывали. А в 1926 году, когда у Фомичевых было уже 16 душ, разделились на 3 семьи. Максиму Венеевичу, у которого было 3 сына, досталась пекарка, кое-что из сельхозинвентаря и корова. Вот и все богатство.
В 1928 году, когда Максиму Венеевичу уже было 40 лет, у него родилась долгожданная дочка Шура. Радовался отец дочке, ухаживал за ней, заплетал косы, но недолго это длилось. Во время коллективизации он вступил в колхоз, стал работать на конюшне. А в декабре 1933 года его арестовали, предварительно проведя дома обыск, искали зерно. Забрали скот, сельхозинвентарь, забрали родительский дом, где жил его брат с семьей и матерью.
Арестовали тогда многих казаков и пешком погнали в Миллерово. В Мешковской присоединился к ним отряд таких же бедолаг, которых гнали из-за Дона. Переночевали в церкви на холодном полу, к утру многие замерзли. Потом была ночевка в Дегтево, где тоже осталось много трупов. Когда пришли в г. Миллерово, всех поместили в какой-то барак, где обессиленные люди попадали на нары и уснули.
Был среди арестованных житель хутора Громчанского – священник, фамилию которого, к сожалению, никто не помнит. Так вот он лежал на нарах, но не спал и увидел, как в барак зашел охранник, держа в руках ящик. Проходя по рядам, он стал посыпать людей каким-то порошком. Священник догадался, что таким образом умерщвляют людей. Он успел лечь вниз лицом, закрыть нос и рот. Так лежал он всю ночь, слыша, как обрывается дыхание людей. Затем наступила полнейшая тишина. Утром трупы вынесли и сбросили в яму, которая уже наполовину была заполнена. Лежал в этой яме и священник, а вечером вылез и ушел домой.
Все это он рассказал Агафье Васильевне – жене Максима Венеевича. Вот почему она спрятала фотографии.
Она знала, что муж погиб ни за что, и боялась, что эта участь коснется и сыновей.
Осталась она с четырьмя детьми. Растила сама, отдавая им всю душу. К сожалению, один сын умер в детстве, второй погиб в войну. Остался сын Андрей и дочка Шура, с которой Агафья Васильевна и дожила свой век.
Теперь уже нет в живых и Андрея Максимовича, осталась Александра Максимовна одна. А душа болит, за что же погиб ее отец. Искала она ответ на этот вопрос, писала в Ростов, в Москву и получила ответ: «Фомичев Максим Венеевич 1889 года рождения репрессирован 9 марта 1933 года по постановлению тройки при ПИ ОГПУ СКК и ДССР за антисоветскую агитацию, направленную на срыв хозполиткомпании, заключен в концлагерь на 5 лет лишения свободы».
А в справке о реабилитации сказано: «Фомичев Максим Венеевич по заключению прокуратуры Ростовской области от 26 марта 1990 года реабилитирован как необоснованно репрессированный по политическим мотивам». А сколько таких «необоснованно репрессированных» по нашей многострадальной стране! Кстати, тот священник из хутора Громчанского после возвращения из г. Миллерово был снова арестован и исчез бесследно.
Под чужим именем
Каждый из нас стремится прожить жизнь достойно. И чтобы достаток был, любовь, семья. Чтобы ценили и уважали. Чтобы в поле хлеб рос, а в доме – детки. И чтобы на земле мир был на веки вечные… Эта история о том, как обстоятельства ломают жизнь человеческую через колено. Не дай вам Бог увидеть такое даже в страшном сне. Ну а если это все-таки случится с человеком на яву, то только сильный духом может выпавшие испытания выдержать и не сломаться. Все рассказанное м не выдумка. Реальная история, свидетели которой живы до сих пор.
Не думал, не гадал наш хуторянин Никифор Петрович Мещеряков, что судьба сыграет с ним злую шутку. Жил, как и все хуторяне. Имел большое хозяйство, Шесть дочерей подарила ему жена Марьюшка. Чтобы управляться с хозяйством, весной всегда нанимали работников, которые шли к Никифору Петровичу с охотой, потому что он хорошо платил и питался с работниками за одним столом. Но все рухнуло в один момент.