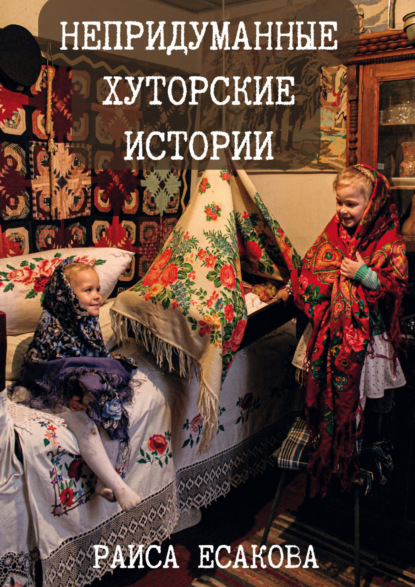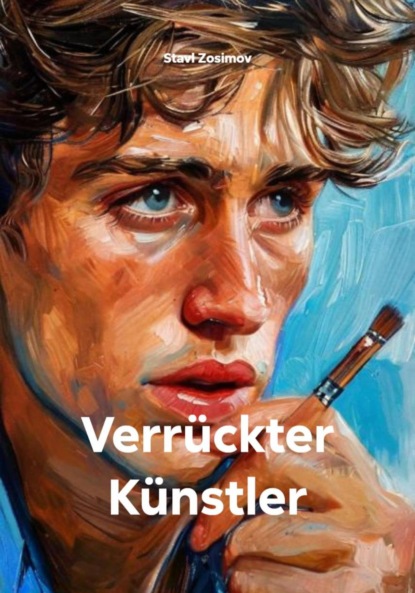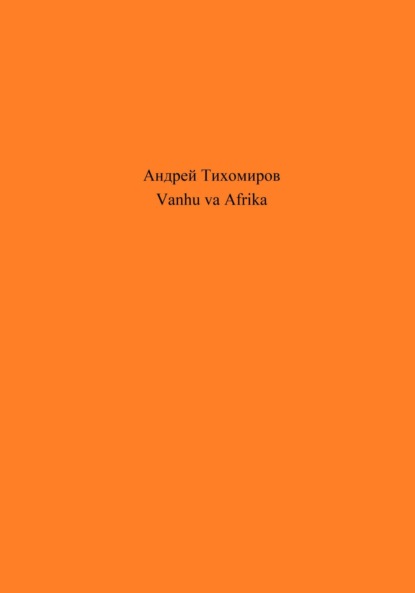- -
- 100%
- +
Во время раскулачивания арестовали Никифора Петровича и отправили в Миллеровскую тюрьму, где была «человеческая мясорубка». Там ему и другим арестантам без допросов и обвинений вынесли смертный приговор. Несчастным связали веревками руки, положили их на конные сани штабелем в два ряда и повезли за город в сторону Хоминых лесов на расстрел. Возница и двое охранников были пьяны. Никифор Петрович лежал на спине такого же бедняги. Они смогли развязать друг другу руки. Охранники дремали.
Была темная мартовская ночь. Сыро, снег проталинами, дорога в ухабах. На одном из покатых склонов дороги у куста Никифор Петрович свалился с саней и затаился. Погони не было. Пошел он в сторону леса, набрел на сторожку лесника, где его обогрели, накормили и спрятали на несколько дней.
Хотя Никифор Петрович понимал, что домой пробираться небезопасно, но все-таки пришел. Показался только жене, которая его кормила, прятала некоторое время, а потом он исчез навсегда.
Как трудно жилось Марии Ивановне с детьми одному Богу известно. Из дома их выгнали хозяйство растащили. Из шестерых детей выжили трое: Фрося, Поля, Анна. Подросли, пошли работать в колхоз. Заимели свои семьи. Две дочери жили вместе с матерью в своем доме, который им вернули после войны.
А в 1958 году в один из летних дней во двор вошел мужчина. Седой, невысокого роста. Медленно, оглядываясь вокруг, поднялся на знакомое до боли крыльцо, нажал на щеколду и вошел в дом. Это был хозяин дома – Никифор Петрович, живший все эти долгие годы в чужом краю, под чужим именем.
Войдя в дом, он упал на колени перед образами, заплакал, благодаря Бога за возможность на склоне лет увидеть своих родных. Узнала его Мария Ивановна, опустилась рядом с ним на колени и тоже заплакала. «Прости меня, Марьюшка, не по своей воле оставил я тебя с детьми горе мыкать», – просил он жену. «Бог с тобой, Петрович, нет у меня на тебя зла, главное, что ты живой, это для меня большая радость», – отвечала она ему сквозь слезы.
На встречу с таким гостем сбежалась вся многочисленная родня. Но Никифор Петрович был немногословен. Лишь близким сообщил, что живет на Кубани, имеет семью, но детей нет. Пробыл всего пять дней и уехал. Оставаться надолго под чужим именем побоялся.
После этой встречи начал переписку с младшей дочерью Анной. А в 1965 году она с мужем ездила к отцу, который был уже очень стар.
Вскоре Анна перестала получать ответы на свои письма. Тогда написала в сельский совет запрос, и ей сообщили, что отец умер. Был он очень хорошим человеком, работал в колхозе кузнецом.
Вот такова судьба человеческая. Быть может, прочитав мой рассказ, кто-то равнодушно отложит его в сторону, но надеюсь, что большинство читателей все-таки посочувствуют ни в чем не повинному человеку, прожившему большую часть своей жизни под чужим именем, под страхом ареста, не имея возможности видеть родных детей, и умершему в чужом краю, ими не оплаканным.
Трудная жизнь Матрены
В марте нынешнего года казаки Верхне-Донского округа отметили 97-ую годовщину со дня начала Верхнедонского восстания казаков против советской власти. Без малого век прошёл после тех трагических событий, которые коснулись каждой семьи. Сколько было загублено людей! Многих сгноили в тюрьмах, другие погибли в ссылке в Сибири, на костях многих таких бедолаг построен Беломоро-Балтийский канал. А были такие, кто покинул свою страну и скитался по белу свету, так и не причалив к родным берегам. Но память жива. И хотя нет на белом свете участников тех страшных событий, живы их внуки, правнуки. Особенно отрадно, что нынешняя молодёжь с интересом относится к прошлой истории своих семей. Из поколения в поколение передают и рассказывают о злодеяниях, причинённых их семьям.
И мой рассказ о семье, которая в то лихолетье хлебнула горя сполна. Я уверена, что, читая мой рассказ, найдется кто-либо, который вспомнит, что и с его предками происходило что-то подобное.
Жила в Мещеряках семья Мещеряковых Дмитрия и Неонилы. В семье было 8 детей. Как и все семьи на Дону, жили своим трудом, вели хозяйство, трудились все, кто мог. Но неожиданно умер хозяин, главный кормилец семьи Дмитрий. Умирая, он попросил жену отдать в дети самую младшую дочку Мотю, полагая, что жене будет очень трудно поднять всех на ноги. Но мать никому не отдала свою дочку, а когда той исполнилось 8 лет, определила её в няньки к священнику в хутор Нижнетиховской. Так пошла Мотя в люди. Потом работала нянькой в других семьях. За годы скитания по чужим семьям Мотя выросла, похорошела, расцвела.
Молодость брала своё. Ещё когда она работала в Тиховском, приметил её хуторской парень Гладков Иван Алексеевич. Да и он ей приглянулся. А когда парень навоевался, Мотя с радостью согласилась выйти за него. И зажили молодые счастливо, надеялись, что надолго.
Иван был в семье единственным сыном, поэтому жил на одном подворье с родителями. Вскоре у молодых родился сынок Ванюшка, а потом ещё сынок и тоже Ванюшка. В то время новорождённым давали имена по святцам, а по ним выходило то Фома, то Ерёма. Вот отец и сказал: «Пусть будут, как я, Иванами».
Ну, что ещё нужно для счастья? Любовь была крепкая, помогал Иван Моте во всём, грубым словом никогда не назвал, ласкал её и сыновей. Оба работящие, жили в достатке. Но наступили смутные времена. В начале 1919 года стал Иван часто уезжать из дома неизвестно куда. Жену в свои дела не посвящал. А потом и совсем исчез.
Через хутор в сторону Дона постоянно ехали обозы с людьми и вещами. Разлилась речка Тихая, попыталась несколько раз Мотя пойти в Мещеряки проводить родных, да речку не перейти. А однажды ночью в окно осторожно постучали. «Иван!» – вскочила Мотя, обняла мужа, заплакала. А он быстро шёпотом объяснил ей, что уходит в «отступ». Попросил её ехать с ним, а для этого собрать в дорогу самое необходимое из одежды и еды «Ваня, а какже дети?» – заплакала Мотя. «Оставь моим родителям. Скроемся где-нибудь на шахте, обживёмся, Бог даст, всё утихомирится, заберём детей. Мотюшка, милая, я без тебя пропаду. Поехали. Лошадей я оседлал и для тебя, и для себя. Буду ждать тебя за хутором в балке. Собирайся», – был ответ. Подошёл к детям, которые сонные разметались на полу на шубах, стал на колени, поцеловал каждого и вышел.
Заметалась Мотя по хате, соображая, что взять с собой. Судорожно хватала то одну вещь, то другую, совала в сумку. Кое-как что-то собрала. Оделась, подошла к детям, постояла, взяла сумку вышла в чулан, прислонилась к косяку и долго смотрела в сторону балки, где её ждал муж. Ждал и не дождался.
Положила Мотя сумку на порог, пошла ещё раз посмотреть на детей. А они, раскинув ручонки, безмятежно спали, не думая о том, что в этот момент решается их судьба. Женщина опять вышла на порог, долго-долго смотрела вдаль, мысленно прощаясь, может, навсегда со своим любимым. Закрыла дверь, медленно зашла в хату, не раздеваясь, легла между сыновей и, заглушая рыдания, чтобы не разбудить детей, пролежала до утра с открытыми глазами.
Наутро для неё началась другая жизнь. Позади был муж – главная опора, а впереди неизвестность и страх. Каждый день со своего двора она видела, как в Мещеряках полыхают хаты. А когда сошла на лугу вода и через речку Тихую, можно было по мосту переехать в их хутор, запылали хаты и в Тиховском.
Вскоре на подворье Моти появились красные конники, приказав мальчишкам бежать в левады и там спрятаться, сама она убежать не успела. Приезжие вели себя нагло и уверенно. Видимо, знали, что хозяин дома участник казачьего восстания. Поставили Мотю к стене, приготовились стрелять. Но с плачем прибежали сыновья, стали рядом с матерью, обхватив её за ноги. Видимо, дрогнула рука у палача, не стал стрелять. Тогда командир грубо заволок Мотю в сарай, надругался над беззащитной женщиной и сам запалил хату.
Вскочила обезумевшая Мотя в горящую хату, пытаясь хоть что-нибудь вынести. Но только и успела взять детскую одёжку да икону, в которой хранилась их семейная фотография, где она счастливая с мужем и старшим сынишкой. И начала она скитание по хуторским углам. Многие хуторяне в то время ушли в отступление, и пустых хат в хуторе было иного. Годы спустя она вспоминала: «Только одну хату окупирую, приведу в порядок, вернулись хозяева – уходи. Иду в другую». Потом брат помог ей купить в Мещеряках небольшую хатёнку, только без крыши. Он же помог и с крышей. Теперь жили они в своей хате. Мальчишки подрастали, трудились. Все трудности не перечесть.
Вступили в колхоз. Ванюшка старший уже работал вместе с матерью, младший Ванюшка учился в Мешковской семилетке. А в 1934 году на имя Моти из Венгрии пришло письмо. Почта и сельский совет были тогда в хуторе Мрыховском. И письмо, конечно, попало в сельсовет, где быстро прореагировали: Ванюшку исключили из школы, а у Моти забрали корову. Письмо было от её мужа Ивана, который после долгих скитаний осел в Венгрии.
Заголосила мать: «И сына жалко, и без коровы как прожить?»
В Мрыховский приехал директор Мешковской школы и на собрании долго и упорно доказывал, что по советским законам сын за отца не отвечает. И разрешили Ване посещать школу, а Мотю в наказание на неделю отправили в Мешковскую готовить обеды для учеников. Всю неделю катала она лапшу, сушила пышки на верёвках, резала и кормила детей вкусной лапшой, за что получила благодарность директора школы.
А когда вернулась домой, посетил её председатель колхоза Сергей Никифорович Грузинов, двадцатипятитысячник. «Ну, что, Гладкова, плачешь?» – спросил он Мотю. «Кричу, кричу день и ночь». «Пойди в Мещеряки на бригадный двор и выбери себе стельную тёлку» – разрешил он. Всё-таки мир не без добрых людей.
Мужу Мотя написала, чтобы он больше ей не слал письма. Получил он её письмо или нет, но от него больше не было вестей. Когда началась война, Мотя в душе таила надежду, что муж появится. Но нет, он больше не отзывался.
Она работала в колхозе, кормила фронт, молилась за сыновей, которые, слава богу, вернулись с войны домой. Но они уже жили своими семьями, Матрена держалась одна. А в 1947 году судьба неожиданно подарила ей внучку, которой было полтора года, и которая нуждалась в её уходе и заботе. Хоть и трудно жилось, Матрёна Дмитриевна не отказалась от Любы, приютила, согрела. И стали они жить вдвоём. Вот кому изливала свою душу бабушка. А Люба слушала рассказы о судьбе бабы Моти, запоминала, словно зная, что это ей когда-нибудь пригодится.
Так и жили эти две родные души. Бабушка работала в колхозе, внучка уже умела всё делать по хозяйству, училась, очень любила читать. Иногда читала или рассказывала что-либо из прочитанного бабушке. Однажды она прочитала вслух отрывок из романа «Тихий Дон» о том, как Григорий и Наталья пахали и ночевали в степи. Заголосила тут Матрёна Дмитриевна: «Да всё же это было так. Ведь мы с моим Ваней тоже ездили на Чир пахали и ночевали там. Утром Ваня рано встанет, укроет меня потеплее и скажет: «Поспи ещё, голубушка, а я пойду найду быков, запрягу и поработаю немного. А ты позорюй…»
А однажды пришла Люба из школы и сказала: «Баба, а почтальон ищет каких-то Мещеряковых, им письмо из Венгрии». «Да это ж, наверное, наш дед нас разыскивает», – вскрикнула Матрёна Дмитриевна и побежала на почту. Да, это было письмо от Ивана Алексеевича, которому хотелось хоть на склоне лет узнать что-нибудь о своей семье и, если можно, посетить её.
И тут уж за дело взялись сыновья. Знали они, что одна жительница хутора вышла замуж за офицера и уехала с ним на место его службы в Венгрию. Обратились к этому офицеру с просьбой найти их отца и написать всё о нём. Ответ пришёл быстро. Да, действительно Гладков Иван Алексеевич проживал по указанному адресу и очень хотел повидать свою семью.
Долго хлопотали сыновья с оформлением документов. И вот в начале 60-х годов Иван Алексеевич прибыл на свою родину. На встречу его собрались родственники, а он, волнуясь и часто вытирая слёзы, рассказывал, какие он перенёс мытарства.
Эмигрировал в Турцию, где голодал и кормил вшей, потом перебрался в Болгарию, где тоже пришёлся не ко двору, потом попал в Венгрию, где завёл семью. Жена его уже умерла, но есть две дочери. А Матрёне Дмитриевне сказал: «Я тебя, Мотюшка, тогда прождал почти до рассвета».
Когда повела она его посмотреть сад и огород, по дороге он неожиданно подхватил её на руки и перенёс через лужу. Затуманилось всё у нее в голове, перехватило дыхание: «Боже, это же его крепкие нежные руки! Нет, я их не забыла. Это по ним я тосковала, это их я вспоминала всю свою несчастную жизнь». Притих и Иван Алексеевич, видимо, такое же чувство испытывал и он. А потом, глядя на её натруженные руки, попросил: «Поехали, Мотя, со мной, хоть на старости лет поживёшь спокойно, отдохнёшь». И она согласилась. «Любушка, – говорила она внучке, – я поеду с дедом. Ты уже взрослая и твой Ваня Полянский из хорошей семьи. Выходи за него замуж, я вам хату отпишу».
За время своего пребывания в родных местах Иван Алексеевич не отходил от жены. Его всё радовало в ней. Особенно он восхищался хлебом, вспоминая, что такой же она пекла и в молодости. Вот она вынимает хлеб из печи, он помогает. Снял с лопаты буханку и спрашивает: «Бабка, куда положить бурсак?» А она в ответ: «Да положи на стол и накрой дежником». «Мотя, если бы ты знала, как мне надоели мадьярские кукурузные лепёшки!» – жаловался он жене.
Только видит Матрёна Дмитриевна: нет, не такой, не тот её муж, что-то есть в нём чужое. Прошло несколько дней после его приезда, он уже и кличку получил Венгер, а два туго набитых чемодана так и не раскрыл. Внуки (а их четверо) сидят, ждут, когда же дед одарит их чем-нибудь. Не вытерпела Матрёна Дмитриевна, спросила: «Что же у тебя там за сокровища?» А когда он раскрыл чемодан, ахнула. Разноцветные платки женские, детские кофты, юбки, платья. Но всё такое изношенное, многое в заплатах, а многое с дырками.
«Что же ты думаешь, что Советский Союз пальцы сосёт? Ты зачем привёз сюда эти гуни?» – возмутилась Матрёна Дмитриевна. «Да у нас говорят всякое. Вот мне люди и нанесли вещей», – оправдывался Иван Алексеевич. Как вспоминает внучка Люба, из всего этого тряпья она выбрала себе один пиджачок, хоть заплатанный и облезлый, но без дыр.
Месяц пробыл Венгер на своей родине, набрал со своего подворья камуков – голышей. Очень хотел посетить Тиховскую церковь (для чего привёз из Венгрии два костюма и туфли к ним), но её к тому времени уже не было. Уехал, надеясь на скорую встречу со своей Мотей, для чего просил сыновей помочь побыстрее оформить документы.
Два письма прислал Иван Алексеевич жене, где просил быстрее приезжать. И она радовалась, надеялась на скорую встречу. Но… не суждено. В третьем письме было известие о смерти мужа. И всё. Отцвела, поникла и засохла на какое-то время вдруг помолодевшая женщина. Горе свалило её, и у неё случился инсульт. И тут они с внучкой поменялись ролями.
Как когда-то больная, беспомощная внучка нуждалась в заботе и ласке, теперь во всём этом нуждалась бабушка.

За годы болезни бабушки Люба вышла замуж за Ваню Полянского, родила двух дочек, дом с мужем построили. Но огромной любовью и большой заботой Люба окружила самого родного ей человека бабушку. Умерла Матрёна Дмитриевна в 1980 году.
А я думаю, что господь дал ей возможность на том свете свидеться с любимым человеком, с которым была разлучена всю свою трудную жизнь.

Памятник «врагу народа»
В первой половине мая 1980 года среди жителей станиц Вешенскон и Базковской, а также окрестных хуторов распространился слух о том, что за одну ночь, тайно на крутом берегу правобережья дона, вблизи Зыковой левады хутора Калининский был поставлен памятник донскому и казаку Ермакову Харлампию Васильевичу – известному прототипу главного героя романа «Тихий Дон» М. А. Шолохова Григория Мелехова.
В те дни одни из казаков говорили, что этот памятник сделали уральские инженеры из булатной стали, привезли на Дон и ночью, чтобы никто не увидел, его поставили. Другие утверждали, что не может быть этого, чтобы за тысячи верст привезли сюда памятник двухметровой высоты. Не иначе как памятник сделали наши казаки в своих мастерских – говорили третьи. Но факт оставался фактом, памятник Харлампию Васильевичу Ермакову стоял. Однако простоял недолго, вскоре он был демонтирован и сдан на хранение в милицию.
А кто же на самом деле изготовил и поставил памятник? Это сделал рабочий Горьковского автозавода Иван Александрович Калеганов, по профессии шофер, сын крестьян-колхозников поселка Суходол Горьковской области, 1930 года рождения.
Калеганов высок ростом, атлетически сложен, спортсмен, любит музыку, играет на баяне. С ранней юности увлекся творчеством М.А. Шолохова. Прочитав однажды «Тихий Дон», он был очарован природой Верхнего Дона, его людьми. Но больше всего его увлекали прототипы романа, которые жили тут же, среди народа. Особенно он не переставал восхищаться казаком Харлампием Ермаковым – этим мужественным и храбрым человеком, в жизни которого переплелись запутанные и противоречивые проблемы казачества на Дону.
Двадцатишестилетним парнем Калеганов в 1956 году приезжает к нам на Дон, в Вешенскую. В поисках прототипов романа, ни разу не обратившись к Шолохову, побывал в домах многих жителей станиц и хуторов. В хуторе Калининский (прообраз хутора Татарский) он сошелся с местным казаком, страстным охотником и рыболовом, в прошлом батарейцем Филиппом Ивановичем Каргиным.
Каргин был близко знаком с М. А. Шолоховым, а с Харлампием Ермаковым дружил с молодости. Шолохов, приезжая на рыбалку, часто бывал в доме Каргина. Филипп Иванович рассказывал, что однажды видел уединенного Шолохова. Он сидел с трубкой в зубах на круче берега и долго задумчиво смотрел на восьмисаженный спуск к Дону, на извилистую россыпь ракушек и на перекипающее стремя Дона. Он что-то обдумывал. А Ф.И. Каргин, принимавший непосредственное участие в гражданской войне и Вешенском восстании, делил судьбу вместе с Харлампием Ермаковым, многое рассказал и Михаилу Александровичу о тех грозных событиях, которые происходили на Верхнем Дону.
В знак глубокого уважения к мужеству и храбрости Харлампия Ермакова, и чтобы память о нем осталась в сердцах народа навсегда, И. А. Калеганов приступил сооружению обелиска. Ему помогал в изготовлении фронтовик инженер Анатолий Михайлович Глухов, в прошлом кавалерист, волей судьбы в войну с полком попал в Вешенскую и отсюда пошел с бой с врагом. Памятник Калеганов делала долго, в нерабочее время и секретно – из нержавеющей стали, меди и мрамора. Это ромбовидный обелиск с мраморным основанием и окантовкой из нержавеющей стали, скрепленной эпоксидной смолой. Между скрещенными шашкой и пикой с лицевой стороны написаны слова:

«ЕРМАКОВ ХАРЛАМПИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Прототипу главного героя «Тихого Дона» Лихому рубаке и отчаянно храброму человеку», 1891–1927 – гг.
И внизу, под местом для фотографии написано: «Вечная память».
На другой стороне изречение из «Тихого Дона» Шолохова:
«Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей, нержавеющей кровью политая степь. Шолохов.»
Вес памятника с оградой и крепежным устройством 86 килограммов. Вез Калеганов памятник из Горького в специально сшитом чехле в купе поезда до Миллерова. От Миллерова до Зыковой левады хутора Калининский – на бортовой автомашине.
Когда спрашивали шофера, что за тяжелый груз везет в чехле, отвечал, мол, лодка с моторами, еду на рыбалку. До крутого берега Дона с помощью вшитых ремней нес на плечах. Опустил памятник на землю на том месте, где в 1926 году пропроизошла встреча Шолохова с Харлампием Ермаковым вблизи хутора Калининский недалеко от переправы через Дон.
Здесь, на этом месте, Ермаков рассказывал Шолохову о событиях гражданской войны 1919–20-х годов.
В тот вечер, с наступлением темноты Калеганов открыл котлован глубиной полтора метра, там же доспал ночь, а на рассвете следующего дня подчистил дно и мая 1980 года, в 75-летия Михаила Александровича, установил памятник. Когда на лодках стали на Дон съезжаться рыбаки, а пастухи выгнали коров на пастьбу, Калеганов пошел пешком в Базки, чтобы уехать в Горький. А Люди, увидев на солнце отблески нержавеющей стали, потянулись к памятнику, прочли надписи.
Через полтора года, желая узнать, стоит ли памятник он обратился с письмом к дочери Харлампия Ермакова Пелагее Харлампиевне (Полюшке) Шевченко – вешенской учительнице. Она сообщила, что памятник снят и по ходатайству Михаила Александровича Шолохова находится у нее в доме. И тогда Калеганов приехал в Вешенскую. Встретился с личным секретарем писателя Коньшиным Михаилом Власовичем и попросился на прием к Шолохову. А дальше М.В. Коньшин рассказывает:
«Когда я доложил Михаилу Александровичу о том, что из Горького приехал рабочий Калеганов, который установил памятник Харламлню Ермакову, и просится на прием, он рассмеялся и сказал: звони, мол, Михаил Власович, начальнику КГБ и скажи ему, что они полтора года ищут «злоумышленников» и никак не найдут, а мы вперед их нашли».
Прием Калеганова проходил в усадьбе Шолохова, за столиком на балконе дома во второй половине теплого августовского дня 1982 года. Мы сидели втроем, Михаил Александрович с теплотпой, какой-то мягкой доброжелательностью долго беседовал с ним:
– А что вас побулило, товарищ Калеганов, изготовить и поставить памятный знак Харлампию Ермакову? – спросил Шолохов.
– Моя глубокая любовь к донским казакам, мужество и храбрость Харлампия Ермакова – прототипа главного героя романа «Тихий Дон» – Григория Мелехова, – ответил Калеганов.
– Вам надо было бы получить разрешение в райисполкоме на установление памятного знака. Вы же знаете, что Ермаков был арестован, в 1927 году расстрелян и до сих пор не реабилитирован, – сказал Михаил Александревич. Шолохов встал со стула, подошел к Калеганову, подал руку и взволнованно сказал: – А вы, товарищ Калеганов, не бойтесь, вам ничего не будет.

Они тут же на память сфотографировались. Калеганов достал из кармана фотографию Харлампия Ермакова, подал ее Шолохову, и Михаил Александрович на обороте написал: «Калеганову. На память. М. Шолохов. 12.08.82.» При этом он сказал: «Да, Харлампия казаки уважали, уважали». И поднял вверх правую руку.
Через несколько лет, в 1989 году, Калеганов решился обратиться в КГБ с ходатайством о реабилитации Ермакова. Он взял заявление от дочери Харлампия Васильевича Ермакова – известной вешенской учительницы, награжденной орденом Ленина, приехал в Ростов, и 26 мая 1989 года встретился с сотрудниками облуправления КГБ. Рассказал, почему он, простой рабочий Горьковскогом автозавода, приехал с ходатайством о реабилитации Ермакова.
Удивительно ли, что к просьбе Калеганова отнеслись сперва с недоверием и сдержанностью. Тогда пришлось показать фотографии, на которых он был снят вместе с Шолоховым и его надпись на фотографии Ермакова. Вскоре Ермакова полностью реабилитировали. В справке председателя Ростовского областного суда А.Ф. Извариной № 44–У–48 от 30.08. 89 г. о реабилитации записано: «За отсутствием в деянии Ермакова Х.В. состава преступления».
Так закончилась эта история о восстановлении справедливости и увековечивании памяти одного из героев книг М. А. Шолохова.
А в первых числах октября, Калеганов снова приехал к нам в станицу Вешенскую. Он привез на имя Вешенского станичного казачьего круга и Государственного музея заповедника М.А. Шолохова заявление о восстановлении дома Х.В. Ермакова, что стоит в Базках, и просьбу вновь поставить ранее снятый памятник.

И. А. Калеганов
Президиум музея принял решение – реставрировать дом Харлампия Ермакова и рядом поставить памятник.
Теперь, в пору широчайшей гласности, которая охватила всю нашу общественную жизнь, когда сняты все препоны для творческого развития человека, думаю, вешенцы все сделают, чтобы украсить шолоховскую землю памятниками героям книг прославленного на весь мир писателя.
Знать родословную важно
Мне часто задают один и тот же вопрос: где я беру эти истории, о которых пишу. Ответ прост: у людей. Ведь у каждой семьи своя история, порой трагичная. Слушаешь такую историю и невольно проникаешься чувством сострадания к тем людям, которые оказались без вины виноватыми, которых лишили жизни в расцвете сил. И не написать об этом просто нельзя. Итак, еще одна невыдуманная история.
На сгибах стёртый жёлтый документ.Жестокий приговор преступной тройки.Однажды ночью схвачен был мой дед.И приторочен был к тюремной койке.Никто не знал, за что и почему.В расцвете сил хозяин и работник.Да, видно, дело было потому:Однажды он не вышел на субботник…Эти стихи принадлежат Николаю Вечёркину, известному поэту-песеннику из ст. Боковской. Он не знаком с атаманом х. Мрыховского Апришко Юрием Николаевичем, но в своих стихах, сам того не ведая, ёмко отобразил судьбу деда Юрия Николаевича, да, наверное, и не только его, а судьбу многих таких же бедолаг.