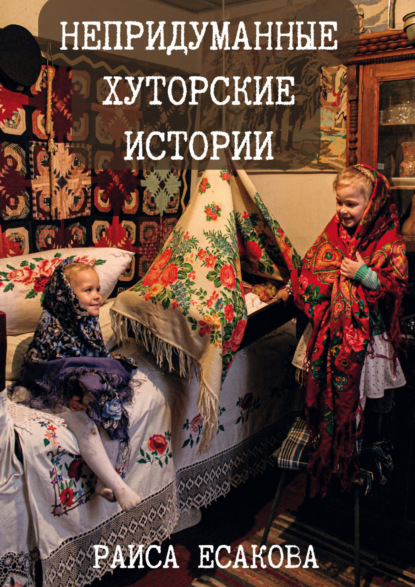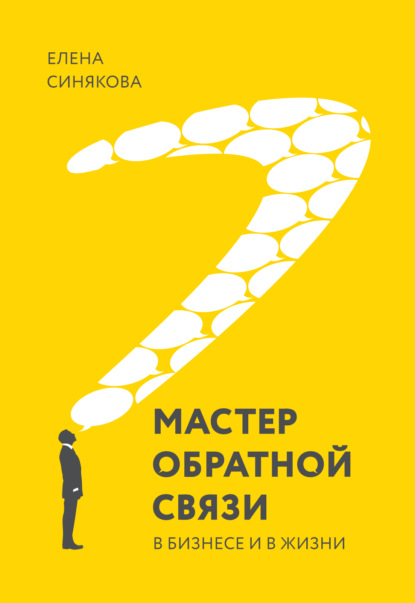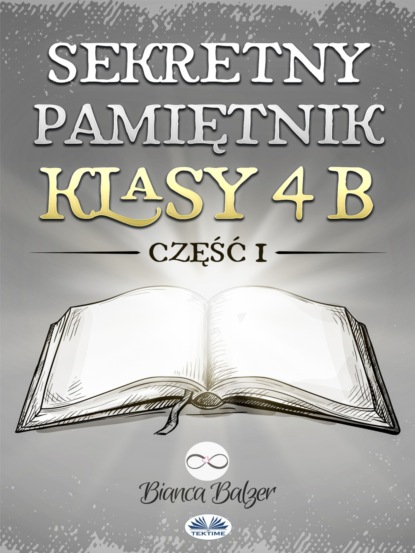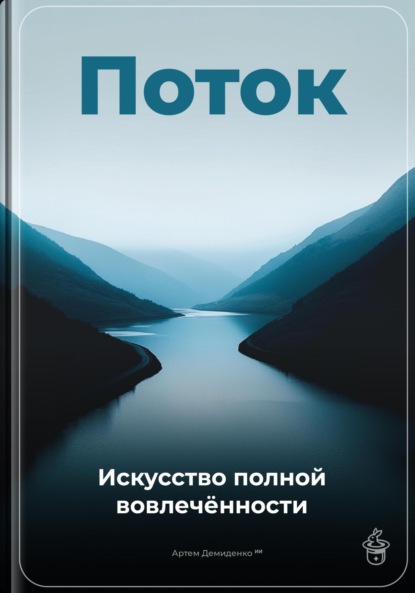- -
- 100%
- +
А Юрий Николаевич принёс в наш музей стёртые на сгибах, пожелтевшие от времени документы, подтверждающие арест, ссылку всей семьи его деда, Доманова Галактиона Пантелеевича. И поведал мне историю жизни своих дедов и тех страшных событий.
Доманов Галактион Пантелеевич родился в 1885 году х. Красный Яр в зажиточной, работящей семье, в которой кроме него было ещё три сына. А по тому времени это были добрые работники семье. В жёны он себе взял Агафью Григорьевну Рожкову из х. Мрыховского, семья которой была победнее, наверное, потому, что в ней было четыре дочери, которых надо было «справить» – каждой приготовить приданое. Дочку Алесю отдали замуж в свой хутор, Агафью и Анюту на Красный Яр. Потом главу семьи Григория Рожкова убили в лесу при невыясненных обстоятельствах, и осталась его жена Анна с дочкой Ульяной.
А Агафья с Галактионом зажили на славу. Детишки рождались один за другим, жили уже своим домом, имели большое хозяйство, сельхозинвентарь. Но, как говорится, не жди беды, она сама тебя найдёт. Начали умирать у них дети: то от тифа, то от глотошной. Одна дочка просто упала и, ударившись головой, умерла. Взяли супруги себе на воспитание сироту Антона. А тут и время неспокойное настало. Восстали казаки Верхнего Дона весной 1919 года, среди восставших был и Галактион. Агафья осталась с детьми дома, всего боялась, время для неё было непонятным. За что воюют, за что убивают казаки казаков? Одни уходили, другие приходили. Из х. Мрыховского получила Агафья страшную весть: красноармеец застрелил её мать и сестру. Пошла она пешком в родной хутор, но опоздала: сестра уже похоронила убиенных. Поплакала Агафья над их могилами и пошла домой, ведь там дети. А дома увидела страшную картину. Видимо, там недавно был бой. Во дворе лежали трупы красноармейцев, все базы были открыты, свиньи бродили по двору. Испугалась Агафья, вдруг свиньи начнут рвать трупы? А если вернутся красные, что будет с ней и с детьми? Перетащила она трупы в амбар, загнала свиней, а к вечеру в хутор вошли красные. К ней на постой пришли два красноармейца. Потребовали приготовить ужин. За ужином один из них спросил Агафью, откуда она родом, а, узнав, что из х. Мрыховского, начал бахвалиться: «Были мы недавно в этом хуторе. Зашли в один дом, а там две бабы: одна старая, другая молодая. Стали мы у них забирать зерно, а старуха кинулась отбирать, я её и застрелил. А молодая закричала и кинулась на меня с кулаками, я выстрелил в неё, упала она на землю, а сама ползёт, так я в нее двенадцать раз стрелял, пока она затихла. Вот бабы, живучи, как кошки». Самодовольно засмеялся палач, а Агафья стояла, окаменев, отвернулась, чтобы не выдать себя, в голове путались беспорядочные мысли: вот он – убийца моей матери и сестры, как ему отомстить, уснет, зарублю его топором. Вышла она в чулан, приготовила топор, прислонилась головой к холодной стене. И опять в голове сумятица: Господи, ведь убью, грех на душу возьму, а ведь меня тоже убьют, и детей моих тоже убьют, не пощадят же, конечно. Так долго стояла она в чулане, из хаты уже раздавался храп постояльцев, она все не решалась, что же делать… Потом спрятала топор, от греха подальше, и прошептала: «Господь их сам накажет».
А Галактион Пантелеевич после подавления восстания, вместе с другими казаками добравшись до Новороссийска, решил эмигрировать за границу. Было много там казаков с Верхнего Дона. Все пребывали в смятении, взвешивали «за» и «против». Многие погрузились на пароход, который не отходил несколько дней. За эти дни люди неоднократно меняли свое решение: сходили на берег, потом опять поднимались по трапу. И вот пароход начал отходить от берега, у многих текли слёзы по лицу.
Именно этому моменту посвятил свои стихи Н.Вечеркин:
Ваше благородие,Зачем покинул Дон?Ваше благородие,Кому оставил Дом?Не был ты предателем,Не был палачом,Ваше благородие,Задумался о чём?Аргамак твой верныйВ золотой уздеПлыл за пенным следомПо морской воде…Ты стоял и плакал,Слёзы-соль текли,В край чужой и дальнийПлыли корабли…Среди покидавших Родину, был и Галактион Пантелеевич. Он с ужасом глядел на удаляющийся берег, слезы застилали его глаза. Оглянулся назад, у всех мокрые лица от слёз. Галактион Пантелеевич посмотрел ещё раз на берег и неожиданно для самого себя прыгнул за борт. Его примеру последовали еще несколько человек. Он был уверен, что до берега доплывёт, ведь вырос же на Дону! Доплыл. Даже папаху свою не потерял. Решил пробираться домой. Будь что будет. Добирался всеми правдами и неправдами, но добрался. А в «подарок» родным привез полную папаху вшей. Всё хозяйство было разграблено. Но он не пал духом. Слава Богу, удивительно, но пока всё обошлось, его не арестовали, и он с удвоенной энергией взялся за работу, начал восстанавливать разрушенное. Галактион Пантелеевич был большим трудягой, и уже к 1930 году его материальное положение окрепло. Он имел две пары быков, пару лошадей, 4 коровы, много овец, свиней, много домашней птицы. Купил конную косилку, молотилку. Приёмного сына Антона отдал в зятья в х. Подгорский. Из девяти собственных детей в живых к тому времени остались только двое: Иван 1922 года рождения и Акулина двумя годами младше. В том же 1930 году семья Домановых попала под раскулачивание и была выслана на спецпоселение в Пермскую область. Имущество, естественно, было конфисковано. Дом с надворными постройками снесли и перевезли в х. Калинов для постройки клуба. Семьи, раскулаченных казаков, привезли в тайгу, выгрузили из вагонов. Кругом лес, снег. Оцепенели люди, у многих на руках даже грудные дети. И тут послышалась песня, ее заиграл один из казаков. Заголосили женщины, им вторили дети, у мужчин потекли слезы по щекам. А люди сходились в одну кучку, утешали друг друга, собирались все вокруг играющего песню казака. Их объединила общая беда.
Ссыльных поместили на жильё в бараки и началась их жизнь под строгим надзором. Галактион Пантелееич работал на лесоповале, Агафью Григорьевну посылали и ветви обрубать, и снег чистить, и могилы копать (люди там умирали как мухи).
И вот читаю один из документов: «Доманов Галактион Пантелеевич 1885 г. р., глава семьи, чернорабочий. Умер 5 марта 1933 года». Умер в 48 лет. Родным хоронить не дали. И только спустя годы Агафье Григорьевне по секрету шепнули, что мужа её забили охранники до смерти, который, якобы, предотвращая побег, хотел совершить ссыльный. Слабо верится в такую версию. Бежать зимой, одному, будучи в тайге, куда? И на кого оставить семью?
В 1947 году приехали мать и дочь, оставшиеся в живых две родные души, на свое пепелище в х. Красный Яр. Приютить их там было некому. Пошли на родину Агафьи Григорьевны в х. Мрыховский, где у неё осталась одна сестра. Но той самой жилось трудно. Приёмный сын Антон погиб в войну. Но нашлись добрые люди: приютила пожилая, одинокая женщина, которую все в хуторе называли «баба Матяша». Помогали хуторяне, кто чем мог. В хуторе жил брат Галактиона Пантелеевича – Иван Пантелеевич, он тоже оказывал посильную помощь. К тому времени Агафье Григорьевне было уже 60 лет, здоровье подорвано, выхлопотала она пенсию за погибшего сына, на неё и жила. А дочка Акулина (на снимке) уехала на строительство Волго-Донского канала, где вскоре вышла замуж, а потом они мужем приехали в х. Мрыховский. Муж Акулины Апришко Николай Михайлович работал на строительстве Мещеряковской МТС плотником, потом механизатором. Собрали немного деньжат, купили себе хату. И опять не обошлось без добрых людей. Немного деньгами помог им старенький врач, живший в хуторе, к сожалению, никто уже не помнит его фамилию, но вот доброту его и отчество Пимонович запомнили. В семье Апришко один за другим родились два сына – Юрий и Сергей. Только начали понемногу обживатъся, как умер отец семейства – Николай Михайлович, не дожив до 40 лет. Но жизнь продолжалась. Теперь уже Агафья Григорьевна помогала растить детей дочке.
Умерла она в 1978 году.

Акулина Галактионовна
А Акулина Галактионовна всю жизнь в душе носила абиду за погубленную жизнь отца, за отнятое у нее и брата детство и юность, за муки матери. И когда выросли сыновья, она с их помощью решила попытаться восстановить доброе имя своей семьи. На многочисленные запросы и обращения в 1994 году они получили документы подтверждающие, что все четыре члена семьи Домановых реабилитированы из-за отсутствия состава преступления. Да они и сами знали, что не были ни в чем виноваты, что никакой документ о реабилитации, никакая денежная компенсация за конфискованное имущество не вернут жизнь человеческую, безвинно загубленную. Умерла Акулина Галактионовна в 1997 году. Остались её сыновья и внуки, которые знают и будут помнить о трагедии их семьи, о чём мне и рассказал Юрий Николаевич. Теперь я понимаю, почему он предложил оформить в местном музее уголок, посвящённый жертвам репрессии. Об этом должны знать наши потомки.

Семья Домановых
Заканчивая свой рассказ, хочу вернуться к его заголовку. Чтобы подтвердить важность его слов, приведу я еще одну историю. Участником восстания на Верхнем Дону в 1919 году был Чайкин Кузьма Ефимович 1878 года рождения из х. Чиганаки. В то время ему было 39 лет. Конечно, он имел семью. После подавления восстания эмигрировал за границу, жил в Болгарии, видимо, заимел и там семью. И теперь внуки из Болгарии ищут потомков из х. Чиганаки. Но увы! Чайкиных у нас в районе немало, многие из них родом из этого хутора, но никто ничего не знает о Кузьме Ефимовиче. Очень надеюсь, что, прочитав этот рассказ, кто-то откликнется.
Раздел 3
Вставай страна огромная
Никто не забыт, ничто не забыто..
Эти слова принадлежат русской поэтессе Ольге Берггольц. Они относятся к тем, кто отдал свою жизнь в годы Великой Отечественной войны: на полях сражения, в тылу врага, в блокадном Ленинграде… Очень хочется, чтобы было так всегда.
Но чем дальше уходят годы войны, тем более смутным становится о ней представление у ныне живущей молодежи. Если о подвиге, например, молодогвардейцев можно узнать из книг или из кинофильма, то о том, какие события происходили во время войны в нашей местности, мало кто знает. А ведь это история наших хуторов, станиц и всего района.
Пользуясь архивными данными, я хочу написать о действии во время войны на территории Мигулинского района партизанского отряда «Донской казак». Членами этого отряда были, в основном, местные жители. Они немало сделали для освобождения нашего края, для победы. Их незаслуженно забыли, и мне хочется, чтобы на страницах нашей газеты был бы продолжен разговор о них. Ведь живы еще родственники героев и, наверное, могли бы много рассказать.
Командиром партизанского отряда был Меркулов Дмитрий Константинович. Родился он в х. Красный Яр Мигулинского района в 1905 году. До войны работал председателем райисполкома. Когда фашисты захватили родной край, он возглавил партизанское движение.
Вот обращение Мигулинского РК ВКП(б) и райисполкома к трудящимся района:
«Казаки и казачки!
Подлые и вероломные враги – немецко-фашистские изверги временно захватили часть донских просторов, наш район. Они топчут и оскверняют нашу родную землю, землю наших отцов и дедов. Немцы забирают наше добро, грабят, насилуют, убивают. Зачем немцы пришли на Дон? Они пришли для того, чтобы искоренить нас – славян, казаков. Это неоднократно заявлял и этого не раз требовал зверь и людоед Гитлер. Немцы пришли на Дон за тем, чтобы ограбить нас и наш богатый край – забрать хлеб, скот, птицу, одежду и обувь, что они теперь и делают. Немцы пришли на Дон за тем, чтобы добыть себе рабов. Уже теперь в Германии, в страшной рабской неволе, томятся многие наши мужчины, женщины, девушки и подростки.
Немецкие захватчики – злейшие и заклятые наши враги. Казаки и казачки! Пробьет день, пробьёт час освобождения от фашистского ига. Приближается этот день и час. Скоро враг будет думать о том, как бы спасти свою шкуру, унести ноги с земли донских казаков. Враг не должен уйти, враг должен быть и будет уничтожен! Казаки и казачки! Будьте верными сынами и дочерями своей поруганной Родины! Оказывайте врагу всяческие сопротивления. Не давайте ему хлеб, мясо, молоко, одежду и обувь. Помогайте Красной Армии, партизанам. Сами уходите в партизанские отряды. Бейте немцев! Уничтожайте немецких ставленников, изменников Родины! Долой немецко-фашистскую сволочь с берегов Дона! Смерть фашистским оккупантам!»
Из доклада Мигупинского РК партии Ростовскому обкому ВКП(б) о деятельности партизанского отряда «Донской казак»:
«7–10 августа 1942 года по распоряжению командования дивизии отряд был оттянут в х. Бровский Верхнедонского района, где начал вести военную подготовку и подготовку к операции в тылу противника. 12 августа две группы по 3 человека был отправлены в тыл врага для диверсионной работы. Группе Меркупова Д.К., Тимченко А.В. и Щепкина В.А. было дано задание взорвать Мещеряковскую мельницу, а группе Гончарова Е К, Раклова Я.К. и Торопчина Т.В. Мешковскую мельницу.
21 августа возвратились Меркулов Д.К. и Гимченко А.В., пробывшие в тылу 9 дней. Они проникли в глубь оккупированной территории на расстояние 25 км, разведали силы противника и огневые средства. Эти данные были сообщены командованию роты, батальона, полка и дивизии.
25 августа вернулись Лагутин А.И., Колычев Н.Е. Орлов Д.И. Они проникли в глубь района на 20 км, распространили среди населения газету «Коммунист Дона», выяснили силы и огневые средства противника и обнаружили стык расположения его частей. Эти сведения были сообщены командованию.
14 сентября возвратился Щепкин В.А., пробыв в тылу врага 32 дня. Он проник в тыл врага на 60 км, и побывал в нескольких районах: Алексеево-Лозовском, Кашарском, Боковском, Базковском. Оценив силы врага, выяснив дислокацию и расположение огневых средств, разведчик установил связь с населением, изучил действия немцев, настроение людей. Все эти данные были сообщены командованию.
25 сентября в тыл противника была направлена группа в составе Борисенко А.Д., Орлова Д.И., Горбунова С.С. В их задачу входило нападение на малые группы противника, одиночных солдат, мотоциклистов, обозников, связь с местным населением и организация вывода бойцов из окружения, совершение диверсий, восстановление связи с группой Ковалева С.С., которая была оставлена в тылу врага со специальным заданием.
5 октября в тыл противника была направлена еще группа в составе Лагутина АИ., Колычева Н.Е. и Поташева А. Т., перед которыми стояла задача восстановления связей с коммунистами и с населением, настроенным патриотически. Кроме того, необходимо было распространить обращение РК ВКП(б) к казакам и казачкам разведать силы противника, совершить ряд нападений и диверсии в тылу врага.
После отправки групп оставшиеся товарищи должны были дежурить на берегу Дона, ожидая возвращения разведчиков, и обеспечивать их переправу через Дон.
18 октября возвратились Лагутин А.И., Кольчев Н.Е. и Поташев А.Т. Они прошли в тыл врага на 40 км, достигнув х. Павловского. С помощью населения была проведена разведка сил противника, распространены листовки. На обратном пути партизаны порезали 8 телефонных проводов и забросали гранатами группу немцев.
Группа, в которой были Раклов, Торопчин, с задания не вернулась. Раклов и Гончаров были повешены немцами.
Группа Борисенко, Орлов, Горбунов также не вернулись.
С 14 по 21 августа 1942 года член отряда Тепицын Д.П. вывел через Дон из окружения 900 бойцов и командиров РККА. Телицын, знающий местность, помог штабам 277, 9 и 133-й дивизий и отдельным группам достичь берега Дона и форсировать его. При отсутствии переправы через Дон Телицын предложил командиру дивизии полковнику Чернову использовать камеры автомашин. Предложение было принято и удачно использовано. Вместе с Теплицыным помощь частям оказал сын агронома Мешковской МТС подросток Цыбенко Владимир, который вел разведку сил противника.
Всего с помощью населения отряд за 3 месяца и 10 дней вывел из окружения 1087 бойцов и командиров РККА.
Кроме указанной боевой работы отряд неоднократно давал сведения о силах противника в хуторах Мигулинского района, точно определял и указывал расположение пулеметных, минометных и артиллерийских точек немцев как по фронту, так и в глубине тыла».

Катя Мирошникова
Исключительную смелость и мужество проявила партизанка Катя Мирошникова, работавшая до войны заведующей отделом Мигулинского РК ВЛКСМ. Она несколько раз пробиралась через линию фронта и выполняла важные задания партизанского отряда. Немецкие ищейки выследили разведчицу и подвергли ее истязаниям. Катя погибла, никого не выдав врагу.
Вот текст присяги, которую приняла партизанка Екатерина Мирошникова в июне 1942 г:
«Я, красный партизан, даю партизанскую клятву перед Родиной, своими боевыми товарищами, что буду смела, дисциплинированна, решительна и беспощадна к врагам. Я клянусь, что никогда не выдам своего отряда, своих командиров, комиссаров и товарищей-партизан, всегда буду хранить партизанскую тайну, если бы это даже стоило мне жизни.
Я буду до конца жизни верна своей Родине, партии. Если, я нарушу эту священную партизанскую клятву, то пусть меня постигнет суровая партизанская кара».
Катя погибла, выполняя очередное задание. 29 мая 1943 года секретарю ЦК ВЛКСМ был направлен доклад «О подвиге комсомолки Кати Мирошниковой». Его завершают слова: «11 мая мы похоронили Мирошникову на братском кладбище в станице Мигулинской. Катя – это наша Зоя Космодемьянская. Очень хотелось бы, чтобы молодежь Дона, казачья молодежь узнала бы о своей землячке, молодой казачке-комсомолке, отдавшей свою жизнь за Родину, и боролась врагом так, как боролась и ненавидела его Катя Мирошникова.
В хуторе Бирюковском были расстреляны партизаны Ковалев С.С. и Орлов Д.И.
Многие жители рассказывали о партизане Щепкине В.А. Он неожиданно мог появиться среди стада коров вроде пастуха, или же смешаться в поле с работающими колхозниками. Исчезал он так же внезапно. Возможно, живы дочери и внуки отважного партизана. Хотелось бы, чтобы они откликнулись.
Командир отряда Меркулов Д.К. остался в живых. После войны он работал председателем райисполкома в Мигулинской. Потом был направлен в Белую Калитву, где работал директором горбыткомбината. Умер в 1978 году и похоронен на кладбище в Белой Калитве.


Меркулов Дмитрий Константинович
Мы не вправе забывать тех, кто защищал нашу Родину, кто отдал все силы и саму жизнь за свободу донского края. Пусть снова «Никто не забыт, ничто на забыто» звучат в сердце каждого из нас, живущих ныне.
Паша-санитарочка
На фронт Прасковья Алистарховна Мещерякова мобилизована в самом начале войны из г. Каменск. Она приехала незадолго до войны из х. Мещеряковский.
Служить попала в санчасть. И хотя медицинского образования не было, быстро научилась перевязывать раненых. Но часто ей приходилось вытаскивать раненых бойцов с поля боя, они ласково ее называли Паша-санитарочка.
Так и шли ее фронтовые будни до мая 1944 года. А направили Пашу работать санитаркой в один из санаториев освобожденной Одессы.
Здесь ей предложили пройти медкомиссию. Причем досмотр был очень тщательным, можно сказать, от головы до пяток, и, по словам самой Паши, чтобы и прыща ни одного на теле не было. При этом комиссию интересовала и внешность, и характер. Как оказалось, отбирали персонал для командующего 3-м Украинским фронтом Толбухина Федора Ивановича.
Паша была молода, хороша собой, вежлива. В общем прошла отбор и очень понравилась жене командующего, которая по положению была вместе с мужем.
На новом месте Пашу все уважали, называли «Казачка»: чем она очень гордилась.
Войска под командованием Ф.И.Толбухина освободили Рунынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию. Была в этих странах и Прасковья Алистарховна. А в 1945 году чета Толбухиных взяла ее с собой в Москву на парад, посвященный Дню Победы. Сам Федор Иванович на трибуне Мавзолея вместе со Сталиным, а жена его и Паша смотрели парад из машины.
Неизвестно, как бы сложилась дальше жизнь Прасковьи Алистарховны, если бы не ее сердоболие. У командущим фронтом было много генералов-заместителей, были приемы, банкеты. Паша видела, чем питаются высшие. Но упаси Боже (был такой приказ!) отдать остатки стола кому-нибудь. Только в помойную яму.
Однако Паша нередко собирала остатки еды и отдавала солдатам, охраняющим штаб. Кто-то выдал ее. Посадили, чуть ли не врагом народа представили ее, до суда дело не дошло. Жена Толбухина уговорила не судить Пашу. Ее отпустили, и уехала она без документов, подтверждающих участие в боях.
Приехала Прасковья Алистарховна домой в х. Мещеряковский. Стала работать в колхозе.

Ее иногда приглашали в школу для беседы с учениками, на День Победы она стояла вместе со всеми участниками Великой Отечественной воины, но, когда стали получать удостоверения ветеранов, когда появились льготы для фронтовиков, у Прасковьи Алистарховны не оказалось никаких документов.
И поползли черной змейкой по хутору сплетни страшнее другой. Что только ей ни вменяли: дескать, не была она участником войны, а, может, и сотрудничала с немцами. И что самое удивительное: изощрялись в домыслах и бывшие ветераны войны.
Как говорится, злые языки страшнее пистолета: постарела за это время Прасковья Алистарховна. А сколько слез она пролила? Доказать что-либо сплетникам она была бессильна.
И тут случайно Прасковья Алистарховна по телевизору увидела выступающего генерала. Присмотревшись хорошенько, она узнала в нем одного из заместителей Ф.И. Толбухина. Да ведь у нее даже есть фотографии. Быстро нашла она свой домашний архив, ту самую фотографию, на которой она, Прасковья Алистарховна, стоит с четырьмя офицерами.
Были в хуторе люди, которые верили Паше-санитарочке и помогли составить письмо, обрисовав сложившуюся ситуацию и высказав просьбу подтвердить участие Прасковьи Мещеряковой в Великой Отечественной войне. Вместе с письмом отослали фотографию.
И ответ пришел быстро. Пришло письмо и в военкомат, куда выслали документы, подтверждающие участие Прасковьи Алистарховны в Великой Отечестванной войне с самого ее начала и до конца.
Приезжал к Мещеряковой домой представитель военкомата, извинился, привез документы и удостоверение ветерана войны. Жаль, что не осталась в памяти фамилия того генерала.
Прасковьи Алистарховны нет теперь в живых. Но я ведь хорошо помню, мы часто с ней общались, много раз она была в школе на классных часах, рассказывала детям о войне.
Вспоминая ее рассказы, я еще раз хочу назвать ее сердобольной, о каждом раненом солдате она рассказывала со слезами: «Принесешь еду солдатику, а у него ручушек нет. Кормишь его и вытираешь слезы. Начнашь переворачивать на другой бок, а он лежит коротенький, а ножек-то у него нет. Тащишь раненного из Днепра, а он захлебывается, вода кругом красна от крови. Уговариваешь его: «Потерпи, милый, сейчас помогу». А у самой руки-ноги свело от холода, но вида не подаешь».
Таких женщин на войне было много. Они выполняли важную работу: спасали солдат и этим самым внесли большой вклад в успех Победы. За мужество, за сердоболие, за терпение и за тяжкие страдания низкий поклон милым санитарочкам.

Но баранку не бросил шофер
Фронтовым шофером был с начала и до конца войны наш земляк Никифор Петрович Кузнецов.
Каким он был шофером видно по его боевым наградам. Три ордена Красной Звезды, я думаю, просто так не получишь.

Вот один из эпизодов фронтовой жизни Никифора Петровича. Он возил боевые снаряды. Идет бой. Фашистские танки наступают, еще чуть-чуть, и они сомнут наши пушки, которые уже нечем заряжать, кончились снаряды. Несколько машин со снарядами не смогли прорваться, сгорели. А Никифор Петрович проскочил, прорвался, и, рискуя своей жизнью, спас жизни многих солдат, которые, зарядив пушки, смогли отбить атаку немцев. Вот есть уже один орден Красной Звезды. Потом в подобных ситуациях первым посылали Никифора Петровича. И он никогда не подводил, проявляя мужество и геройство.
Эх, путь-дорожка фронтоваяНе страшна нам бомбёжка любая,А помирать нам рановатоЕсть у нас еще дома дела.Эти слова песни фронтового шофера в прямом смысле относятся к нашему земляку.
Он остался жив. Вернулся в родной хутор. До самого выхода на пенсию работал в совхозе комбаймером. А его верным помощником-штурвальным была его жена – Ольга Ивановна. Долгие годы в Мигулинской МТС они занимали первое место по намолоту зерна. Их комбайн никогда не простаивал. Они его сами ремонтировали. Могли надолго задержаться на работе, используя свое личное время, но простоев никогда не было. За долголетний добросовестный труд Никифор Петрович был награжден орденом Трудового Красного Знамени.