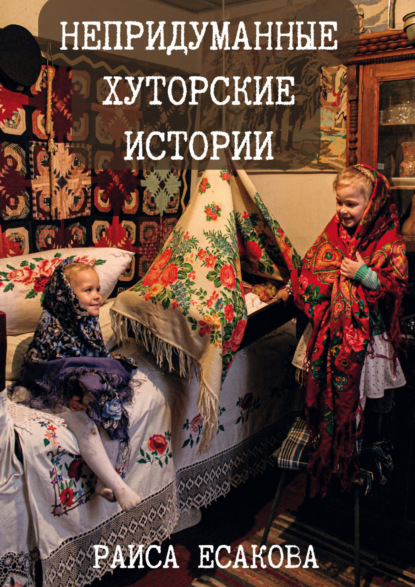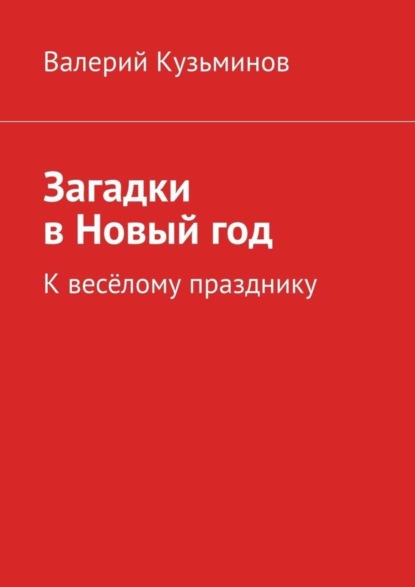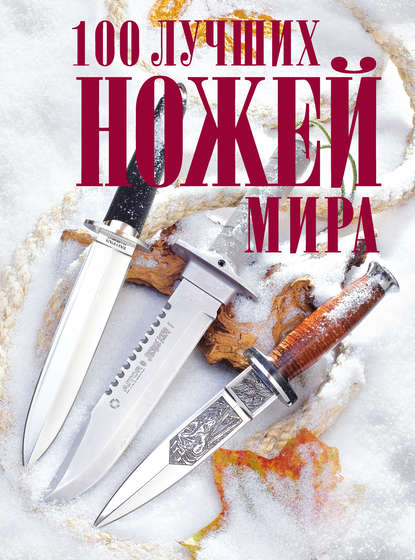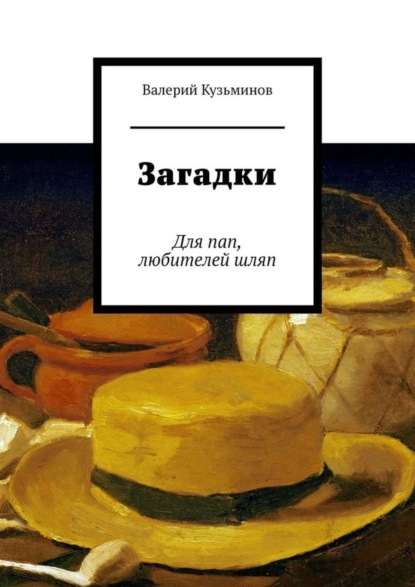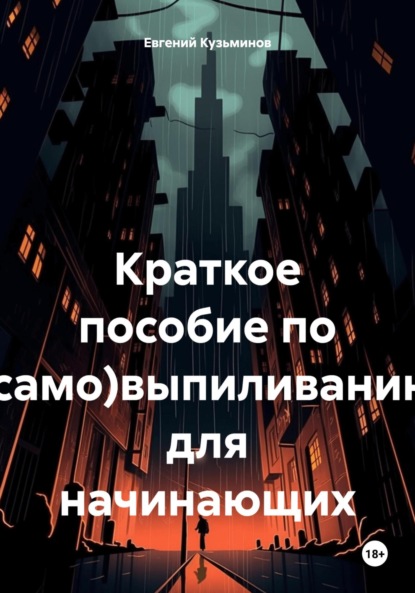- -
- 100%
- +
Супруги Кузнецовы воспитали четверых детей.
Никифор Петрович был очень скромен. Пиджак со своими боевыми наградами надевал только в День Победы. Юбилейные медали совсем не носил.
Никифора Петровича уже нет в живых, и о его заслугах теперь знают немногие. Хочется, чтобы хуторяне помянули его добрым словом.

Кто жив, а кто убит
На этой фотографии запечатлены люди, ещё ничего не знающие о том, какая страшная беда обрушится на их головы, на нашу страну всего через несколько дней. Снимок сделан в мае 1941 года.
Казаки хуторов Бирюковского, Батальщиковского, Мрыховского, Мещеряковского, Громчанского, Тиховского сфотографированы на военных сборах на тиховском лугу. Имена некоторых из них установлены. Вот они: Дрямов Василий Илларионович, Мещеряков Пётр Матвеевич, Мрыхин Павел Моисеевич, Поздняков Андрей Васильевич, Асташов Иван Михайлович, Фомичёв Иван Иванович, Елисеев Иван Михайлович, Макушкин Семён Севастьянович, Осечкин Алексей Ильич, Симонихин Егор Абрамович, Комаров Георгий Васильевич, Буханцов Василий Семёнович, Лагутин Филипп, Беляев Василий, Зимин Филипп, Фомичёв Василий Максимович, Липодаев Василий.
Хотелось бы восстановить имена остальных и узнать их дальнейшую судьбу. Надеюсь, что люди узнают своих близких и откликнутся.

Тот самый длинный день в году
Всё складывалось можно сказать отлично. После окончания средней школы паренёк из х. Мрыховского Григорий Фолимонов поступил в Саратовскую ветшколу, после окончания которой, некоторое время работал ветврачом. Весной 1941 года он получил направление на учёбу в Тимирязевскую академию, куда с радостью собирался ехать. Но не довелось. Всё рухнуло в одночасье. Все эти планы остались где-то в стороне, впереди одно страшное слово «война»!
Они накинулись, неистовы,Могильным холодом грозя,Но есть такое слово «выстоять»,Когда и выстоять нельзя.Так восемнадцатилетний Григорий попал на фронт. Погиб в 20 лет. У его брата Виктора Яковлевича Фолимонова хранятся два письма с фронта, похоронка на него, а ещё детская память цепко сохранила встречу с братом, который после тяжёлого ранения долечиваться приезжал домой. Оба письма датированы декабрём 1943 года. Хоть и молодой был паренёк, но в письмах видна забота о родных, которых он просит жить вместе, поддерживать друг друга и, зная, что нечем платить налог, выслал им 300 рублей. Переживает, что долго не получал известий из дома. О себе скромно: «Жив, здоров». Но в одном письме с родными делится своей радостью: «Дорогое семейство, вот теперь я вам могу написать кое о чём. Вчера, т. е. 12 декабря в 12 часов ночи меня за проявление отваги и стойкости в борьбе с немецкими захватчиками правительство наградило медалью «За отвагу», а также, сестрица Таня, прошу вас беспрестанно помогать фронту своим трудом в тылу».
Слова обращения Григория к сестре Тане говорят о многом: в них боль за разрушенный отчий дом, за свою страну и вера в победу. И хотя его самого на каждом шагу подстерегала смерть, он не просит помощи для себя, а просит помочь освободить свою Отчизну от нашествия фашистских орд. Да, дорогой ценой досталась нам Победа над фашизмом.
Мальчишки семнадцати лет
Собраны фотографии участников Великой Отечественной войны нашего поселения. Особый интерес для меня представляют фотографии безусых мальчишек. О них и хочу рассказать.
Когда в декабре 1942 года был освобождён наш район, вместе с частями Советской Армии ушли на фронт многие хуторяне. Среди них были Фомичёв Василий Максимович, Фролов Пётр Фёдорович, Поздняков Николай Константинович. Необученные они сразу попали в бой и, конечно, многие из них погибли. Есть в городе Новомосковске Днепропетровской области братская могила, где похоронены казаки-мигулинцы.

Засидкевич Н.И.
А 13 мая 1943 года мальчишки 1926 года рождения были призваны в ряды Советской Армии. Это Морозов Василий, Зеленьков Николай, Кравцов Василий, Засидкевич Николай, Реутин Василий из Мещеряков, Ковалёв Пётр из Тиховского, Скилков Василий из Бирюков. Много ребят из соседних хуторов и станиц. Многим из них тогда не исполнилось ещё и 17 лет.
Но им повезло. Это было время, когда врага погнали с нашей земли, был освобождён Сталинград. И мальчишек сразу не бросили в бой, а отправили на учёбу в г. Казань, где они оставались до апреля 1944 года. Может быть, эти наши земляки потому и остались живы. Из них был создан зенитно-артиллерийский полк, который принял своё боевое крещение при освобождении г. Коростень, что на Житомирщине. В задачу полка входило прикрытие с воздуха важных объектов, железнодорожных узлов, мостов, переправ через реки и т. д. Враг огрызался, старался вернуть освобождённые города. Вражеские самолёты часто бомбили важные объекты. Бомбили днём и ночью. И вот эти мальчики не бежали в укрытие, а старались уничтожить как можно больше самолётов. Они честно выполняли свою работу, хотя было очень страшно. Связистом был Морозов Василий, шофёром – Зеленьков Николай, наводчиком орудия – Засидкевич Николай.

Ковалев П.С.
Потом их полк освобождал Польшу, где и встретил радостную весть о победе. По-разному сложились судьбы этих ребят. На долгие годы связали свою жизнь с армией Кравцов Василий и Скилков Василий. Все остальные ребята, хотя и в разное время, вернулись домой, где достойно прожили свои жизни. Николай Иванович Засидкевич бережно хранил фотографию молодой девушки – своего командира взвода Надежды Максимовны Ананьиной.
Помнит и стихи, ей посвящённые:
И, видно, была в тебе грозная сила,Когда, высоко поднимая ладонь,Ты девичьим голосом произносилаМужское короткое слово: «Огонь!»Я написала о судьбе лишь нескольких солдат. А сколько их было по всей стране! Сколько таких ребят погибло, не успев познать жизнь.

Скилков В.М.
Мы должны всегда помнить, как наказ, стихи Р. Рождественского: «Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!»
Их обвенчала война
«Когда я родилась, моих бабушки и дедушки уже не было в живых, но мне о них много рассказывали мама, тетя, старшие сестры и братья. От них я узнала, что дедушка и бабушка познакомились на фронте. Полюбили друг друга, после войны привез бравый казак в свой родной хутор молоденькую жену. Они оба прошли дорогами войны. Каждый своей. И мне очень хочется, чтобы в день 60-летия Великой Победы люди вспомнили о них.
Мой дедушка Петр Лукич Буханцов призвался в армию в самом начале войны. Его боевой путь начался от Москвы, а завершился 9 мая 1945 года в прибалтийском городке Либава. Вместе со своими фронтовыми товарищами он участвовал в освобождении десятков городов. Был дважды ранен в боях, но после лечения в госпитале вновь возвращался в строй.
Офицер Красной Армии, командир взвода, коммунист, отличный лыжник, отважный воин – все это о моем дедушке. В нашем семейном архиве хранятся его военные награды медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией», а рядышком с ними награды за добросовестный труд. После войны дедушка долгие годы работал председателем колхоза в хуторе Мрыховском, потом заведовал отделом кадров в совхозе «Мещеряковский». Вместе с бабушкой они вырастили четверых детей, а вот внуков всех им увидеть не довелось.
Бабушку мою звали Александра Ивановна. Она тоже прошла через войну. В 1943 году ее мобилизовали и направили в Тулу для работы в госпитале. Хотя она и работала медсестрой, но все равно поначалу было жутко: кровь лилась рекой. Госпиталь располагался вблизи передовой, и раненые с поля боя сразу же попадали туда. Медики и санитары сутками не спали, делая все возможное для спасения людей. Госпиталь, где работала бабушка, звался фронтовым, поэтому и перемещался вслед за продвижением фронта. Так вместе с фронтовыми частям госпиталь дошел до литовского города Каунас. Здесь в Каунасе, и застала мою бабушку весть о победе. Отсюда она была демобилизована и вместе со своим любимым приехала на Дон».

Как мы ждали папу
22 июня – «тот самый длинный день в году», изменивший жизнь миллионов людей и ставший скорбной датой. Он разделил жизнь на «до» и «после». До – у людей было всё: кров, семья, работа. А после – огромные потери, главная из которых – миллионы уничтоженных человеческих жизней. Такой страшной ценой досталась нам победа.
Сегодня уже ушли из жизни почти все, кто добывал эту победу. Кромешным адом, назвал битву под Сталинградом один из её участников на встрече с детьми в школе: «За всю зиму 1942–43 годов мы ни разу не были в тёплой хате».
Уходят из жизни труженики тыла, на которых тогда сразу навалилось всё: тяжкий труд, забота о детях, похоронки, недоедание, ведь всё отдавали «для фронта, для победы». Я очень хорошо помню жизнь женщин хутора Бирюковского, я видела их нужду и то, как они бились, словно рыба об лёд.
Но есть ещё одна категория людей, переживших войну – дети тех самых воинов и тружениц тыла. Это они, уже подросшие, восстанавливали разрушенное хозяйство. Воспитанников Алексеевского детского дома после семилетки определяли в ФЗО (фабрично-заводское обучение), ремесленные училища, где они получали рабочие профессии и начинали трудиться. В сельской местности подростки работали наравне со взрослыми. Вот эти дети запомнили всё, что пережили. Ведь детская память крепка. Время из их памяти ничего не стёрло. Примером тому мой небольшой рассказ.
С этой скромнейшей женщиной (поэтому не буду писать её фамилию) мы знакомы с детства. Учились в одной школе, потом были коллегами по работе. И хотя мы обе давно на пенсии, живём в разных поселениях, у нас очень много общих интересов, общих тем для разговоров. Мы общаемся по телефону. Эти разговоры – воспоминания о прошлом, о войне, об истории. Моя собеседница немного помнит время оккупации, немцев, местных полицаев. Она знает всё о своём поселении. Знает всех вдов войны, всех сирот-детей войны, знает судьбу каждой семьи. У неё, как и у меня, тоже погиб отец, и их с сестрёнкой воспитывала мама-колхозница. Было трудно, но обе сестры получили высшее образование. О своих личных бедах мы с ней не говорили. Но в одном из последних телефонных разговоров мы коснулись проекта «Дорога памяти», куда отослали фотографии своих отцов. И тут моя собеседница заговорила. Причём говорила так, как будто рассказывала о вчерашнем событии: «Как мы ждали своего папу! Он ушёл на фронт в первые дни войны. Писем и известий о нём мы не получали. Но мы не теряли надежду, верили, что он вернётся. И когда кончилась война, надежда наша усилилась. Каждый вечер мы с сестрёнкой садились у окна, из которого был виден мост и дорога. Оттуда иногда приезжали машины из Миллерова. Света тогда не было, керосина тоже. Мы сидели в темноте, не моргая, смотрели в окно. Иногда сидели долго. Но вдруг вдалеке загорелись два слабых огонька фар от машины. Постепенно свет усиливался, становился ярче. Вот машина подъезжает к мосту, переезжает его. Мы её уже не видим. Считаем минуты. Вот теперь она остановилась у столовой, папа слез из машины и идёт домой мимо клуба, вот повернул за угол дома на нашу улицу, идёт мимо школы. Мы уже отвернулись от окна, всё внимание и слух на дверь. Вот папа открывает калитку, сейчас постучит в дверь… Замерли, затаили дыхание, но… Кругом тишина. Спать ложились с надеждой, что повезёт завтра.
И так продолжалось долго. Те, кому суждено было вернуться, вернулись, а мы только в 1948 году получили извещение, что наш папа пропал без вести».
Думаю, эта печальная история не может оставить равнодушным ни одного человека. Это печаль не только моей героини, но печаль миллионов детей военного времени, потерявших своих родителей.
Помогла смекалка
В декабре наш хутор и весь район отмечают очень важную дату – день освобождения от фашистов. Произошло эго событие в 1942 году в православные праздники Саввы, Варвары, Николая. Помню, как наша бабушка всегда говорила: «Ну, нынешний день наши входили в хутор».
О днях оккупации, о наступлении наших войск газета писала, печатала воспоминания очевидцев. Но память людей, переживших эти события, хранит многое о том трагическом времени. Я расскажу об одном эпизоде тех дней.
О том, что наступление советских войск будет проходить в районе хуторов Мещеряковского и Тиховского, предполагали и русские, и немцы. Потому что от Мещеряков до хутора Варваринского идёт низменная лощина, тогда как от Мещеряков в сторону станицы Мигулинской крутояр. Конечно же, наступать по лощине удобнее.
Немцы усиленно готовились к схватке, каждый день гоняли местное население расчищать снег и копать окопы, готовились к бою и наши. С помощью партизан из партизанского отряда «Донской казак» были получены сведения о координатах 17 огневых точек противника, которые были успешно ликвидированы. Большую роль в добыче этих сведений сыграла партизанка Катя Мирошникова, которую не вспомнить в эти дни было бы большим грехом.
Но вот осталась ещё одна точка противника, которая не давала советским войскам двигаться дальше из Мещеряков в направлении Мрыховского и Коноваловского. От её огня полегло много наших солдат.
Местные жители, как могли, помогали нашим. Чтобы обнаружить вражеское смертоносное орудие, житель хутора Мещеряковского Константин Степанович Меркулов предложил из камыша сделать манекен, одеть его в военную форму, укрепить на санках с впряжённой в них белой собакой и отправить в сторону противника. Навесили на грудь изготовленного «воина» автомат, и он героически в одиночку «пошёл» в атаку. Собака бежит по дороге мимо кладбища на снегу её не видно. По солдату палят и палят, а он всё не падает. Так засекли и подавили эту злополучную огневую точку, которая находилась на Сосовой горе.
Николай Иванович Засидкевич, бывший в ту пору подростком, которого немцы тогда тоже гоняли рыть окопы, так вспоминает: «Мы жили в войну за кладбищем на рубеже. И я видел, как на Сосовой горе взяли тогда живыми четырех фрицев. Особенно мне запомнился один здоровый и рыжий верзила. Их потом расстреляли».
А Константин Степанович Меркулов, подсказавший идею с солдатом-манекеном, рад был, что хоть чем-то помог советским воинам. Ведь ему самому воевать не довелось. Он был инвалидом без обеих ног.
Я Родиной не торгую!
«Один раз не сумеешь побороть себя – потом всегда будешь казниться. Нет большей победы, чем победа над собой», – так говорил своей старшей дочери Елене – студентке Военной инженерной академии, иногда сетовавшей на трудности в учёбе, Дмитрий Михайлович Карбышев. И дочь снова склонялась над книгой. Потом Елена переехала в Ленинград. Теперь каждый рабочий день Дмитрия Михайловича завершался одним – письмом к дочери: «Крепись, мужайся, а главное – никогда ничего не бойся и не волнуйся. Вот тебе мой завет…» Это было написано 23 января 1941 года. Только 22 июня 1941 года письма от него не было. Отец, командированный в Западный военный округ, остался в сражающейся армии.
В августе 1941 года Д.М. Карбышев, деятель советского военно-инженерного искусства, генерал-лейтенант инженерных войск, профессор, доктор военных наук, пытаясь выйти из окружения, был тяжело контужен и попал в плен. Гитлеровцы хотели заставить его изменить Родине, привлечь к сотрудничеству с ними. «Я Родиной не торгую!» – ответил генерал. Признавая его моральное превосходство, эсэсовцы доносили начальству: «Этот кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму… Карбышева можно считать безнадёжным в смысле использования его у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела». Вот тут гитлеровцы и обрушили на Карбышева все ужасы бесчеловечного тюремно-лагерного режима. Он прошёл через все круги фашистского ада. Три с половиной года он провёл в лагерях смерти. Но всегда поведение Дмитрия Михайловича было примером мужества и стойкости.
В феврале 1945 года его перевезли в лагерь смерти Маутхаузен. Многое видел этот лагерь, но такое впервые. Раздетых догола пленных стали на морозе обливать ледяной водой. Люди услышали слабые, но твёрдые слова генерала Карбышева: «Бодрей, товарищи! Думайте о Родине, и мужество вас не покинет!»
Так зверски был замучен фашистами мужественный, стойкий патриот своей Родины. Было это 18 февраля 1945 года. Хочется, чтобы о нём знали и помнили. Ко всему этому хочу добавить, что уже в самом конце войны семья Карбышева получила письмо. Конверт был написан незнакомой рукой, но на листке из конверта родным чётким почерком был написан их адрес. Дмитрий Михайлович оставил его белорусскому учителю, в дом которого он заходил в июле 1941 года, пытаясь выйти из окружения. Это было последнее обращение Карбышева к семье.

Не все еще написаны страницы
День победы. Для меня это светлый праздник. И хотя с той радостной даты прошло много лет, память людская жива, боль утраты усиливается с годами, гордость за мужество, героизм, подвиг самопожертвования наших дедов, отцов будут навеки в сердцах наших потомков.
Сколько книг написано о войне, какие прекрасные фильмы сняты. А стихи о героизме советских солдат читаешь – и слёзы душат. И, кажется, мы всё уже знаем о войне. Но нет, не всё.
Об этой женщине я писала много раз. И хотя её уже нет в живых её помнят в хуторе и чтят память о ней.
Чем же знаменита Анастасия Никаноровна Кузнецова? Она своим трудом кормила фронт. Весной 1943 года села за руль трактора и проработала долгие годы. Все военные испытания и трудности мирной жизни помогал пережить её весёлый, добрый нрав, оптимизм. Гармонистка-самоучка она сочиняла и исполняла задорные частушки. Первые были о войне и победе:
Когда немцы отступили,Их угнали далеко.Хутор наш освободили,И дышать стало легко.Вот и кончилась война,Пойдут солдаты ротами.Я Серёжу дорогогоВстречу за воротами.Часто Никаноровна сочиняла частушки на злобу дня. Когда при Хрущёве начали сеять кукурузу квадратно-гнездовым способом, появилась частушка:
Я б Хрущёва полюбила,Вышла б замуж за него,Да боюсь, что кукурузаВсех главнее для него.Не осталась в стороне Никаноровна и от темы самогоноварения, когда этот народный промысел процветал в стране:
Научила перестройкаСамогоночку варить.Восемь литров из полпуда,Вся до капельки горит!Ох, проклятый самогон,Его гонит весь райони райком, райисполкомИ милиция тайком.Никаноровна была любимицей публики и пела до конца жизни. Особенно волнительными были её выступления на концертах 9 мая. Пожилые люди слушали её со слезами на газах.
Однажды в музей Донского казачества Мещеряковского поселения приезжали студенты МГУ, интересовавшиеся фольклором. Я организовала им встречу с Анастасией Никаноровной. Студенты были в восторге от её игры на гармошке и от содержания частушек.
Тяжёлый труд на тракторе подорвал здоровье Никаноровны. Однажды, когда она уже тяжело болела, мы с её подругой детства Валентиной Ивановной Засидкевич навестили больную. Она была нам рада и, словно предчувствуя близкую кончину, вспоминала свою жизнь. Особенно военные годы. Вспомнила она и солдатиков, которых в далёком 1941 году вывела к Дону, чем спасла им жизнь. Она вспоминала те события эмоционально, словно это происходило вчера. Вот что поведала Никаноровна.
Шёл 1942 год. Лето, июль, воскресенье. Жара. Обычно в такое время подростки бегали к Дону. Бывали среди них и сёстры Позднышёвы – Настя и Полина. Но в тот день мать Анна Тимофеевна запретила им высовывать нос даже на улицу. Через два двора от них гуляли немцы. Несколько дней назад у Дона был сброшен немецкий десант, чтобы перекрыть путь к отступлению солдатам Красной Армии. Немцы заняли хутор Мещеряковский частично. То в одном кутке, то в другом слышался визг поросят, крик гусей, плач женщин. Часть немцев, дежурила в лесу у Дона, поджидала отступавших. Другая часть хозяйничала в хуторе. Вот и у соседей Позднышёвых немцы горланили вторые сутки.
Пятнадцатилетняя Настя и её младшая сестра Полинка вышли во двор, который был огорожен каменной стеной. Вдоль забора рос густой вишенник. Поспевали вишни. Настя и Полина решили полакомиться ягодами. С улицы девчонок не было видно. Переговаривались шёпотом. Им хорошо были слышны вопли немцев, игра на губной гармошке и пение:
– Волга, Волга, мутер Волга, Волга, руссишь флюс.
– Слышишь, Полинка, Волгу им подавай, – говорила Настя сестре.
– Гады, до Дона добрались. Папку нашего убили. Теперь им Волга нужна, – заплакала Полинка. – А ты слышала, Настя, что мама ночью плакала? И Катюшка плакала, умрёт она, наверное. Теперь вот немцы пришли, заберут всё у нас. Чем же нас пятерых мама кормить будет?
Вышла из хаты мама и попросила нарвать вишен младшим детям. Вдруг они все трое отчётливо услышали гул машины, который доносился со стороны кладбища. Машина остановилась, и послышался громкий топот не одной пары ног.
– Немцы, – сказала мать.
Все стояли в оцепенении. Не выдержала Настя, выглянула за стену и прямо перед своим двором увидела зелёные пилотки с красными звёздами. Много. Она смотрела на остановившихся у стены солдат и не могла произнести ни слова. Потом с трудом выдавила:
– Ребята, вы наши или кто?
Тут командир спросил:
– А что в хуторе немцы?
Настя рукой показала на двор, откуда доносились звуки губной гармошки. И тут вдруг случилось непредвиденное: все солдаты бросили оружие на землю.
– Поднять оружие! – приказал командир.
Все стояли в растерянности. Положение спасла Анна Тимофеевна, скомандовав: Прыгайте через стенку и прячьтесь в кустах. Так и сделали. Командир стал расспрашивать женщину о том, какое положение в хуторе, много ли немцев, далеко ли Дон, как до него добраться, чтобы спасти этих тринадцать молодых необстрелянных солдат.
На помощь пришёл сосед Позднышёвых дедушка Тимофей Фёдоров. Он и Анна Тимофеевна знали, что идти к Дону по дороге нельзя. По лощине, что правее дороги, тоже идти опасно. Там всех отступающих красноармейцев поджидают немцы. В лощине каждую ночь постоянно раздаются выстрелы.
– Уходить к Дону надо ночью вон через ту гору. – сказал дедушка Тимофей. Она перерезана многочисленными оврагами. Вот по одному из оврагов и надо уходить.
Выйдете на ровную местность, заросшую деревьями и кустами, за которой будет другая гора, у подножия которой Дон. Спуститесь к реке по оврагу и переправитесь на левый берег вплавь.
Выслушав деда, командир робко попросил:
– Может быть вы нас проведёте хотя бы полпути?
Молчал долго дедушка Тимофей, а потом посмотрел на Настю.
– Пойдёшь со мной, Настя? Боязно мне одному идти, зрение у меня неважное.
Тут замолчала Настя. Посмотрела на мать, на солдат и ответила:
– Пойду.
На том и порешили. Дедушка Тимофей принёс ведро картошки, попросил Анну Тимофеевну сварить и накормить ребят, а сам пошёл на разведку. Выпустил со двора гусей и погнал их на лужок травку щипать. Дошёл до ближайшего оврага, осмотрелся, поразмыслил, что к чему и погнал гусей домой. Он, объяснив ситуацию, договорился с соседями Кравцовыми и Автомоновыми провести солдат через их дворы.
Как стемнело, и замолкла немецкая гармошка, отправились в опасный путь. Через дворы прошли быстро. Подошли к дороге, что ведёт к кладбищу. Настя перебежала дорогу, остановилась у оврага. За ней преодолели этот путь все остальные. По оврагу шли быстро, не таясь. Вскоре вышли на равнину. Здесь дедушка приказал разбиться на две группы.
– Одну группу поведёт Настя, другую я. – сказал он и добавил: – Слышите, в лесу строчат пулемёты – это далеко, а если будут пускать ракеты, сразу ложимся и лежим, пока не погаснет.
Настя, пригибаясь, побежала к ближайшему кусту. За ней по одному перебегали солдаты. Несколько раз приходилось подолгу лежать. Но вот кончилась равнина, начинался спуск к Дону. Дедушка свистом собрал обе группы. При свете очередной ракеты все увидели, как засверкала впереди донская вода.
Слева был отчётливо виден овраг.
– Всё, – сказал дедушка Тимофей. – Больше мы с Настей вам не помощники. По оврагу спуститесь к Дону, а там плывите. Дай бог вам удачи, ребята.
Солдаты, днём казавшиеся такими испуганными растерянными, сейчас приободрились, может быть, предвидя скорое спасение, вели себя уверенно, сердечно благодарили дедушку и Настю. Попрощавшись, пошли в разные стороны. Теперь уже Настя вела очень уставшего дедушку. Дошли благополучно. А дома во дворе всё это время их ждала и молилась за дочь Анна Тимофеевна.