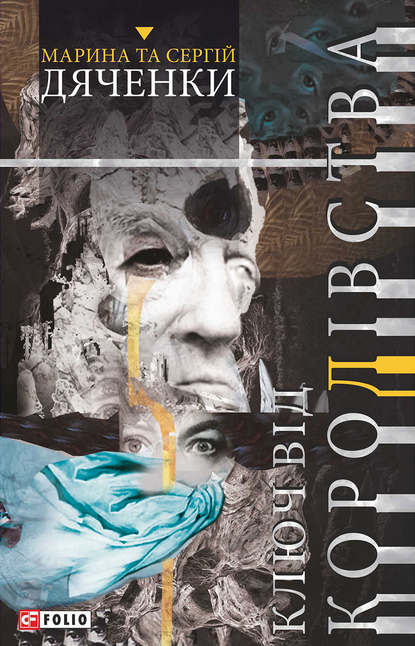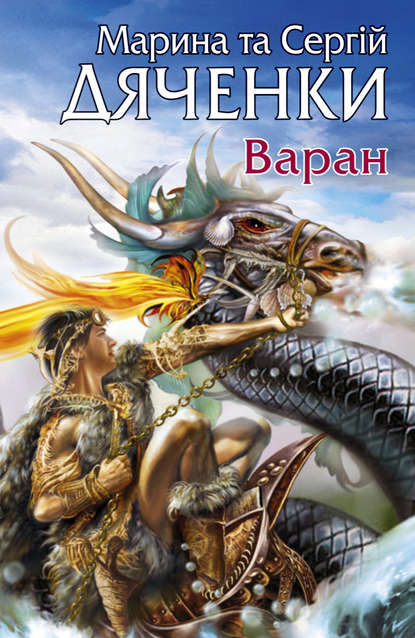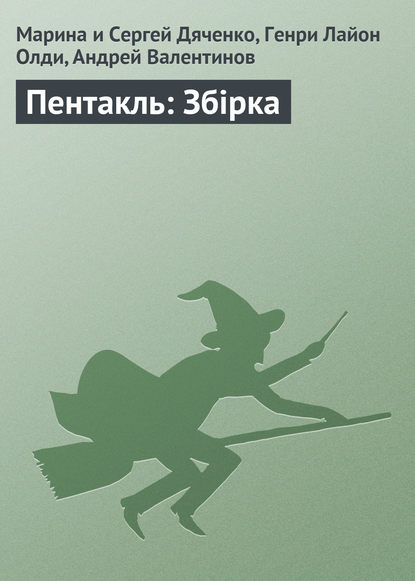Пропавшие без вести. Хроники подлинных уголовных расследований. Книга 2
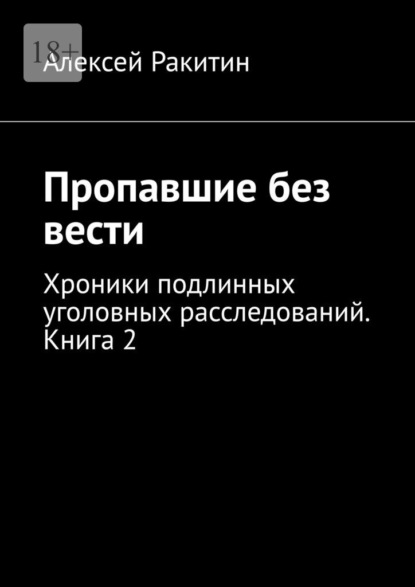
- -
- 100%
- +
Самое забавное заключается в том, что Коноверы за помощь правоохранительным органам всерьёз рассчитывали получить некое материальное вспоможение. То есть логика их поведения оказалась во всём идентична логике Лайла и Лайонса – тех самых работников автозаправочной станции, что «засекли» «додж» Хауптманна. И подобно Лайлу и Лайонсу супруги очень расстроились, узнав, что правоохранительные органы не оплачивают работу свидетелей. А ведь они так старались и верили, что «законники» подкинут им доллар-другой!
Затем полиция догадалась проверить рубанок, которым плотничал арестованный.

Рубанок Хауптманна, приобщённый к делу о похищении Чарльза Линдберга-младшего в качестве вещественного доказательства.
На режущей кромке рубанка были обнаружены щербины, подобные тем, о которых говорил в 1932 г. Артур Коехлер (напомним, эксперт при изучении деталей лестницы заявил, что рубанок, которым они тесались, должен иметь сколы на режущей кромке).
Но и это было не всё. Последним ударом, имевшим для обвиняемого фатальные последствия, оказалось открытие, сделанное во флигеле Хауптманна инспектором нью-йоркской полиции Льюисом Борманом. При внимательном осмотре чердака над квартирой Хауптманнов инспектор обратил внимание на то, что детали перекрытий соединены между собой старыми, коваными вручную 4-гранными гвоздями. Вспомнив, что в протоколе осмотра лестницы, брошенной похитителями у дома Линдбергов, фигурировали отверстия из-под 4-гранных гвоздей, пытливый инспектор взялся рассматривать настил пола. Борман убедился, что одна из отсутствующих досок пола точно соответствует детали раздвижной лестницы, оставленной похитителями у дома Линдбергов. Вызванные криминалисты подтвердили, что вынутая доска действительно была использована при изготовлении лестницы (если точнее – детали под №16).

Фотография пола чердака над квартирой Хауптманнов, частично разобранного полицией.
Однозначность сделанного заключения базировалась на том, что четыре 4-гранных отверстия в детали №16 лестницы точно соответствовали четырём 4-гранным отверстиям в чердачном полу. Посредством четырёх гвоздей эта доска прибивалась прежде к лагам, расположенным под ней.
Сделанное открытие намертво привязывало Хауптманна к лестнице, использованной при похищении ребёнка Линдберга. Теперь его можно было обвинять не только в мошенническом получении денег в качестве выкупа за ребёнка, но и в самом похищении.
В окружном суде Бронкса, рассматривавшем вопрос о выдаче Хауптманна властям штата Нью-Джерси, выступили свидетели, чьи показания доказывали причастность Хауптманна к похищению ребёнка: Миллард Уайтед, Льюис Борман и Чарльз Линдберг. Последний появился в суде для того, чтобы подтвердить опознание голоса Хауптманна. Осборн, эксперт-графолог, заявил, что почерк обвиняемого соответствует почерку, которым были написаны письма, содержавшие требование выкупа (напомним, что первое из них было оставлено на подоконнике детской комнаты в ночь преступления). Заявление графолога, таким образом, тоже привязывало Хауптманна по месту и времени к похищению ребёнка.
Суд уложился в один день. Судья Хаммер постановил выдать Хауптманна властям штата Нью-Джерси и уже через три часа обвиняемый был доставлен в городок Флемингтон (Flemington), административный центр округа Хантердон (Hunterdon), где был заключён в местную тюрьму. Кортеж из 7 автомашин и 2 полицейских на мотоциклах встречала громадная толпа жителей графства, привлечённая трансляцией новостей по радио.
Началась подготовка большого процесса по обвинению Ричарда Хауптманна в похищении и убийстве ребёнка Линдберга. Дэвид Виленц неоднократно повторял на разные лады, что для него осуждение преступника, покусившегося на сына «Героя Америки» – дело чести. Министр юстиции не скрывал своих серьёзных политических амбиций, было известно, что он собирался выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора штата, а значит, ему была нужна убедительная победа в суде.
В целом совокупность уличающих Хауптманна вещественных доказательств и показаний свидетелей, можно разделить на несколько разнородных групп.
а) Опознания:
– Джоном Кондоном (Хауптманн дважды встречался с ним и получил от него выкуп вечером 1 апреля 1932 г.);
– Чарльзом Линдбергом (который слышал голос Хауптманна при передаче выкупа);
– Уолтером Лилом и Силией Барр (которые принимали от обвиняемого золотые сертификаты, чьи номера были указаны в «списке Линдберга») и, наконец, Миллардом Уайтедом (который видел Хауптманна, слонявшегося в феврале 1932 г. вокруг дома Линдбергов).
б) Идентичность почерков обвиняемого и лица, написавшего 13 писем с требованиями выплаты выкупа за похищенного ребёнка. Графологическая экспертиза считала бесспорным как совпадения в написании ряда букв (n, o, s, t, y), так и специфических орфографических ошибках («were» – вместо «where», «hte» – вместо «the» и прочих).

Фрагменты демонстрационного планшета, подготовленного экспертом-графологом обвинения, на которых демонстрируется идентичность написания слов «you» и «to» Ричардом Хауптманном и автором анонимных писем, содержавших требования выкупа за похищенного ребёнка Чарльза Линдберга.
в) Обнаружение денег, переданных кладбищенскому «Джону» в качестве выкупа за похищенного ребёнка. Не существовало никаких объективных свидетельств того, что обнаруженные в гараже Хауптманна 14 600 $ в золотых сертификатах действительно когда-либо передавались ему Изадором Срулем Фишем. Более того, не было никаких свидетельств того, что Фиш вообще когда-либо располагал подобной суммой денег.
г) Совокупность улик, связанных с особенностями лестницы, брошенной преступниками возле дома Линдбергов:
– изготовление «детали №16» из доски, взятой на чердаке дома, где проживала семья Хауптманнов;
– наличие следов на дереве, свидетельствующих о том, что они обрабатывались именно рубанком Хауптманна.
д) Косвенные улики:
– отсутствие alibi Хауптманна как на время похищения Линдберга-младшего, так и на время передачи выкупа за него месяц спустя;
– отсутствие объяснений довольно обеспеченной в материальном отношении жизни Хауптманна до ареста. Было известно, что он бросил работу плотником, стал на свои деньги играть на бирже, совершил несколько продолжительных поездок по стране вместе с женою, купил автомашину. В период 1932—34 г. доказанный доход Хауптманна от биржевых спекуляций не превысил 6 тыс. $, и эта сумма не покрывала всех его расходов за это время;
– Хауптманн совершал прежде преступление (как minimum одно), в котором проникал в окно второго этажа по лестнице;
– номер домашнего телефона Кондона, записанный на стене в квартире Хауптманна, подтверждал версию о том, что последний вступал с ним в контакт.
Эти улики не зря приведены здесь. Они определённым образом рассортированы; без этого их кажущееся обилие способно сильно исказить восприятие материала. Имеет смысл проанализировать весь тот набор свидетельств, который, по мнению обвинения, бесспорно разоблачал Хауптманна.
Несколько моментов представляются в высшей степени странными и явно не идущими к делу. Во-первых, это пресловутое опознание Линдбергом голоса Хауптманна. Утверждать, что всего по одному слову («Эй, доктор!») свидетель спустя 2,5 года опознал обвиняемого, по меньшей мере несерьёзно. Линдберг не слышал от кладбищенского «Джона» более ни одного слова, ведь все переговоры с ним вёл Кондон. И кажется очень странным, что Линдберг не постеснялся утверждать, будто опознал голос Хауптманна, а обвинение не побоялось опереться на такое весьма сомнительное заявление. Надо сказать, что столь же сомнительно выглядело и опознание обвиняемого Миллардом Уайтедом, соседом Линдбергов. В феврале 1932 г. он не разговаривал с подозрительным незнакомцем, не подходил к нему близко, не видел его машины и не запомнил индивидуальных особенностей его одежды. Ссылаться на опознание таким свидетелем – не совсем добросовестный приём обвинения.
Серьёзные подозрения в истинности вызывает обнаружение номера домашнего телефона Кондона на кухонной стене в квартире Хауптманнов. У арестованного и в самом деле была манера записывать телефонные номера на обоях возле телефонного аппарата. Но оставить против самого себя такую улику, причём не удосужиться уничтожить её на протяжении более чем двух лет – это прямо-таки верх безответственности. Но Хауптманн отнюдь не казался глупым или безответственным человеком. Но даже не это соображение было главным. Изюминка состояла в другом – похитители «ребёнка Линдберга» никогда не звонили Кондону домой! В 30-х годах 20-го столетия преступники уже знали о технической возможности быстрого определения адреса исходящего звонка (задача эта облегчалась тем, что автоматических телефонных станций большой ёмкости в те времена не существовало, и коммутация осуществлялась оператором вручную). Верхом глупости похитителя был бы звонок со своего домашнего телефона. Поэтому совершенно невозможно понять, для чего Ричард Хауптманн записал на кухонной стене номер телефона Кондона-Джефси
Следующим серьёзным моментом, заставлявшим усомниться в официальной полицейской версии, был тот факт, что «деталь №16» лестницы киднэпперов оказалась изготовлена из фрагмента чердачного перекрытия над квартирой Хауптманна. С одной стороны, это была очень сильная улика против обвиняемого, которую практически невозможно было парировать и как-то убедительно объяснить в безопасном для него смысле. Но с другой стороны, угадывалась какая-то абсурдность в действиях Хауптманна, если они и в самом деле были таковы, как их преподносила полиция. По версии следствия получалось, что в декабре 1931 г. обвиняемый получил разрешение на строительство гаража во дворе дома и завёз большое количество стройматериалов (в том числе и пиломатериалов), а буквально через месяц он взялся изготавливать лестницу для похищения и для этого принялся вытаскивать доски из чердачных перекрытий. Не существовало никаких разумных объяснений тому, для чего, имея под рукой необходимый материал, Хауптманн затеял возню на чердаке и фактически оставил там улики против самого себя. Которые – опять-таки! – не удосужился уничтожить за два с лишним года, миновавшие с той поры.
Несмотря на то, что прокуратура Нью-Джерси демонстрировала уверенность в своих силах, а её шеф давал прессе многозначительные интервью, нашлись люди, испытавшие сильные сомнения в правдивости официальной версии. Первым в длинном списке усомнившихся следует назвать знаменитого детектива Эллиса Паркера, известного под прозвищем «американский Шерлок Холмс».
Судьба этого человека до такой степени необычна, что о его жизненном пути следует рассказать особо. Тем более, что как станет ясно из последующих событий, отделить Элиса Паркера от подлинной истории расследования похищения Чарльза Линдберга-младшего совершенно невозможно.
Родился Эллис Говард Паркер (Ellis Howard Parker) 13 сентября 1871 года в штате Нью-Джерси и ни о каких подвигах на ниве борьбы с преступностью в молодые годы он даже не мечтал. Впрочем, об одуряющем и отупляющем фермерском труде молодой человек также не мечтал. Будучи человеком разносторонне одарённым Эллис без труда освоил с дюжину музыкальных инструментов, разумеется, не профессионально, а сугубо на любительском уровне, и зарабатывал деньги тапером. Играл на всём, что в американской глуши могло считаться музыкальным инструментом – на клавикорде, скрипке, мандолине, банджо, гитаре, всевозможных духовых инструментах и, само собой, на губной гармошке. Зарабатывал он не только музицированием в салунах и барах, но и работал на выезде, то есть по приглашению на дом. Во время такой вот подработки на выезде Элис был обворован, кто-то из гостей позарился на скрипку 27-летнего музыканта и, уезжая со свадьбы, прихватил инструмент с собой.
Наглая кража возмутила Эллиса и тот в сопровождении группы поддержки бросился на розыск вора. Ему удалось правильно «прочитать» следы на грунте и он довольно скоро нагнал вора. Тот сначал всё отрицал и даже пригрозил застрелить всякого, кто посмеет прикоснуться к его вещам, но Паркер вступил в переговоры и не только успокоил воришку, но и убедил того отдать скрипку. «Тебе понравилось, как я играл, верно? Но ведь ты всё равно так не сможешь!» – аргумент этот сразил нехорошего человека и тот признал правоту Эллиса.
История эта, произошедшая летом 1898 года, произвела сильное впечателние не только на вора, но и на спутников Эллиса. А чуть позже и на шерифа округа Барлингтон (Burlington), как раз затеявшего в то время создание в своей службе отряда детективов. Шериф не поленился отыскать музыканта, познакомиться и потолковать с ним. В результате этих переговоров Паркер в одночасье стал детективом в штатском – одним из двух в службе шерифа! – и обзавёлся служебным револьвером и латунной бляхой.
Тут-то всё и заверте…
О некоторых примечательных делах, к расследованию которых приложил руку этот незаурядный детектив, будет сказано чуть ниже, пока же опишем его жизненный путь в общих так сказать чертах. В 1901 году Эллис женился на 19-летней Коре Гилберсон (Cora E. Giberson) и их брак следует признать исключительно удачным. Судя по всему, Паркер искренне любил жену и приложил много сил к обустраиванию «семейного гнёздышка». На большом участке земли на окраине города Маунт-холли (Mount Holly), административном центре округа Барлингтон, детектив возвёл внушительный особняк на 15 комнат с различными надворными постройками – гаражом на 3 машины, конюшней, огромным погребом, похожим на подземелье, просторным сенным сараем. Это было настоящее поместье, которое можно было бы назвать «дворянским гнездом», если бы только речь не шла о Северной Америке, где дворянства не существовало в принципе. В последующие годы чета Паркеров обзавевалась детишками – в 1903 году родилась девочка Милдред Элизабет (Mildred Elizabeth Parker), в 1910 – сын Эллис Говард (Ellis Howard Parker Jr.), обычно называемый Эллисом-младшим, в 1915 – ещё одна дочь Лилиан (Lilyan P. Parker), а через 4 года, в 1919 году, младший сын Эдвард Стоукс (Edward Stokes Parker). Младшие дочь и сын прожили долгие жизни и умерли уже в XXI столетии, а вот в отношении старший детей судьба оказалась не столь милосердна – старшая дочь умерла в возрасте 47 лет, а Эллис-младший – в 54 года.
Слава к Эллису Паркеку пришла не сразу. Поначалу он никаких особенно сложных дел не раскрывал – в округе Берлингтон запутанные преступления были редки. Главное достоинство Паркера как сыщика заключалось в удивительном постоянстве успешного выполнения порученного задания. Причём неважно какого – кражи лошадей, карточного шулерства, умышленного убийства или побега из тюрьмы.
Если Эллис Паркер брался за дело – он завершал его успехом. Осечек почти не бывало.
В январе 1916 года из федеральной тюрьмы бежали опасные убийцы, которым, казалось, удалось кануть в небытие. Проходили день за днём, а ничего подозрительного, что можно было бы связать с беглыми преступниками не фиксировалось – никто не угонял автомобили, велосипеды, не воровал лошадей, не грабил магазин и даже одежду с бельевых верёвок никто не сдёргивал. У судебных маршалов, занимавшихся розыском беглецов, возникло даже подозрение, что негодяи попросту погибли и по весне, после схода снега, их бренные кости будут найдены где-нибудь в лесах или полях штата Нью-Джерси.
Тем не менее, ведомство судебных маршалов разослало по всем шерифствам Нью-Джерси уведомления об имевшем место происшествии. Дней через 10 или чуть более со времени побега у Эллиса Паркера во время его приезда в столицу штата Трентон кто-то из коллег-«законников» поинтересовался, что тот думает о неуловимых беглецах и их странном побеге в зимнюю пору, явно неподходящую для столь экстремальных затей? Паркер ответил, что ничего не думает, поскольку их розыск – это юрисдикция службы маршалов, но если ему дадут почитать что-то кроме обычной ориентировки, то возможно подумает.
Начальнику отряда детективов предоставили для ознакомления справки из тюрьмы, обвинительные заключения из судов и выпивски из реестров службы переписи населения с перечислением родственников разыскиваемых преступников и мест их проживания. Предоставили и кое-какие иные документы, запрошенные Эллисом, в частности, сводки о правонарушениях по всему штату и справки служб безопасности железных дорог об инцидентах. Паркер почитал эти документы, посмотрел внимательно на карту Нью-Джерси – всё это заняло час или, может быть, два – после чего указал на карте места, где имело бы смысл выставить засады. Мест таких оказалось не очень много, может быть, с десяток, может – дюжина.
В общем, задача представлялась весьма посильной и полиция штата сразу же разослала по телеграфу рекомендации разместить в указанных местах засады, поскольку там в ближайшее время возможно появление одного, либо обоих беглецов. Минули сутки и 16 января 1916 года в одну из засад на лесной дороге между небольшими городками Кольерс-миллс и Лейкерс угодил Джозеф Томас, один из бежавших убийц.
Эта результативность удивила даже видавших виды судебных маршалов. Они полторы недели читали те же самые документы, смотрели в те же самые карты и никакого толка! А ведь ловля сбежавших угловников – это одна из важнейших задач их ведомства, можно сказать – это их хлеб… Как начальнику детективов из какого-то Богом забытого округа удалось то, с чем не справились профессионалы?!
Эллис Паркер объяснил ход своих рассуждений – он, кстати, никогда не делал из этого тайны – и логика его оказалась довольно проста и даже очевидна. Паркер предположил, что преступники не зря бежали зимой – в условиях низких температур и короткого светового дня – они с самого начала хотели использовать неблагоприятную погоду в своих интересах. Они не ставили перед собой задачу быстро покинуть район бегства, а потому не угоняли автомашины и не влезали в грузовые поезда. Они намеревались переждать активные поиски в укромном месте и только после этого начинать движение каждый к своей цели, перемещаясь вне дорог и преимущественно в тёмное время суток. Пойманный преступник Джозеф Томас имел в Нью-Джерси большое количество родственников – более 15 человек – и с кем-то из них он явно планировал вступить в контакт, но не сразу и не с ближайшими. Кстати, ближайшая родня беглецов находилась под плотным контролем и рядом с местами их проживания дежурили патрули, но к ним беглецы приблизиться даже не пытались.
Поэтому Паркер предложил ждать появления преступников возле домов не очень близкой родни и указал места, где лучше ставить засады. Джозеф Томас шёл к дому двоюродной сестры, которая проживала возле городка Айквуд, и для этого ему следовало миновать лес между Кольерс-милс и Лейкерс – там-то его и повязали. Как видим, всё просто, когда объяснено!
Этот пример замечательно демонстрирует как аналитические способности Эллиса Паркера, так и присущее ему понимание человеческой психологии, иначе говоря – способность проникать в глубины мышления оппонента и предсказывать его поведение. Эти удивительные качества начальник детективов округа Берлингтон демонстрировал не раз.
Прекрасной иллюстрацией отмеченных качеств Эллиса может служить инцидент, произошедший 30 сентября 1919 года. Тогда чернокожий грабитель напал на Мэри Нотсли (Mary Notsey), 31-летнюю женщину, подменившую буквально на полчаса мужа, работавшего продавцом в оружейном магазине «Мерчант райфл» («Merchant-rifle») в городке Маунт-холли (Мount Holly), том самом, рядом с которым проживал Паркер. Грабитель, угрожая ножом, завладел кассой, двумя автоматическими пистолетами и большим количеством патронов. Хотя женщина не пострадала, сам факт нападения чернокожего грабителя вызвал взрыв эмоций местных жителей.
В течение нескольких часов собралась толпа численностью до 500 неравнодушных американцев – все они жаждали «суда Линча» как высшего выражения «демократии прямого действия». Шериф опасался толпы вооружённых головорезов больше, чем негра-разбойника. Эллису Паркеру было поручено отыскать и обезвредить чернокожего грабителя до того, как это сделают линчеватели. Детективу удалось установить личность преступника – это был 23-летний Джеймс Уайтинг (James Whiting), который, отрываясь от преследователей, скрылся в обширном болоте, из которого вытекала небльшая речушка под названием Ранконас-грик (Rancocas creek).
Шериф с небольшой группой помощников прибыл к болоту и остановился, не зная, что предпринять. Идти вглубь зелёного массива было очень опасно – меткий стрелок, ведя огонь из укрытия, мог перестрелять всех преследователей. Ситуацию спасла находчивость Эллиса Паркера – тот предложил шерифу поджечь кустарник и пообещать Уайтингу в случае его сдачи честный суд и сохранение жизни.
Так и сделали! Люди шерифа пригнали в болоту цистерну с бензином и подожгли растительность. Когда густой дым стал наползать на болота, Паркер сел на лошадь и по гати двинулся вглубь. Сжимая в руках рупор, он стал громко говорить, обращаясь к беглецу, убеждая того сдаться без сопротивления. Паркер называл себя и гарантировал Уайтингу спасение от линчевателей. В те минуты Эллис серьёзно рисковал получить пулю от отчаявшегося грабителя, оданко, чернокожий бандит доверился ему и сдал оружие. Паркер в свою очередь сдержал обещание и доставил Уайтинга в тюрьму целым и невредимым.
Однако настоящая слава пришла к Эллису именно в силу его блестящих успехов на ниве расследования запутанных преступлений, а вовсе не из-за умения читать следы, поджигать болота или устраивать засады на сбежавших тюремных сидельцев. Хорошим примером того, как Эллис работал над «глухарями», то есть бесперспективными делами, может служить расследование убийства сержанта Майкла Грегора (Michael Gregor), проходившего в 1921 году воинскую службу в роте снабжения 16-го пехотного полка в местечке Кэмп-Дикс (Camp Dix).
Сержант пропал без вести 9 сентября того года, а его скелетированные останки были обнаружены в лесу 3 декабря. Состояние их было таково, что опознание по внешним признакам было невозможным. Останки идентифицировали по ключам, найденным подле. Сотрудники Отдела уголовных расследований Армии США опросили сослуживцев пропавшего без вести военнослужащего и были вынуждены признать, что не в силах не только назвать виновного, но даже реконструировать обстоятельства случившегося. Тогда военное командование обратилось за помощью к Эллису Паркеру, уже широко известному к тому времени мастеру разгадывания криминальных головоломок.
Хотя расследование преступлений в Вооружённых силах США выходило за рамки его юрисдикции, Эллис приехал в Кэмп-Дикс и поговорил с большим количеством сослуживцев Грегора и прочитал протоколы допросов, проведённых военными детективами. Он установил обстоятельства службы убитого, наличие конфликта в воинском коллективе и не только назвал имя и фамилию убийцы, но и в деталях рассказал как было совершено преступление. Убийца похитил Грегора и вывез его далеко в лес на служебном автомобиле, где и расправился, причём от начала до конца он действовал в одиночку. Преступника никто не видел, он ни с кем в сговор не вступал, опасаясь предательства, а кроме того, этот человек был уверен, не оставил изобличающих улик. Когда Паркер в ходе личного разговора назвал его убийцей, тот яростно всё отрицал, уверенный в том, что его вину доказать невозможно.
Тем не менее Паркер настаивал, что убийца назван верно и впоследствии тот полностью признал вину и в деталях рассказал о преступлении. Кода же Паркера спросили о том, какого рода соображения побудили его назвать убийцей именно того, кого он назвал, а не любого иного военнослужащего из числа сослуживцев Грегора, детектив объяснил, что самым подозрительным и вместе с тем убедительным доводом стало наличие у этого человека alibi. Звучит парадоксально, правда? Спустя несколько месяцев со времени исчезновения сержанта практически никто из его сослуживцев не мог представить надёжного alibi, а вот у убийцы оно отыскалось моментально и притом на первый взгляд казалось убедительным. Этот человек явно готовился к возможным расспросам и эта подготовленность лучше любой улики свидетельствовала о его виновности.
Ещё более выразительно таланты Эллиса Паркера проявились в другом сенсационном расследовании – речь идёт о поисках убийцы известного циркового актёра и бизнесмена «Могучего Джона» Бруннена («Honest John» Brunen). Мимо неё пройти невозможно, история эта на самом деле заслуживает отдельного подробного рассказа, что невозможно в рамках настоящего повествования, поэтому автору придётся ограничиться самым общим изложением событий. Итак, 47-летний «Могучий Джон» был убит единственным выстрелом через окно в 19:30 10 марта 1922 года. Потерпевший сидел в кресле в гостиной собственного дома под №508 по Нью-Джерси авеню в городе Риверсайде, округ Барлингтон (Burlington). Брунен располагался спиной к окну, держал в руках газету и не видел стрелявшего.