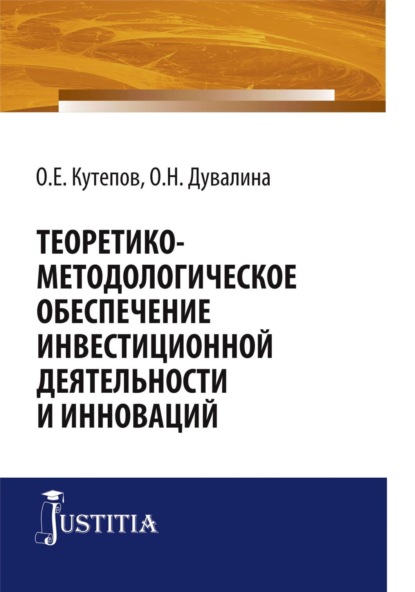Школа удивления. Дневник ученика

- -
- 100%
- +
Это известный многим трюк с четырьмя хлебными шариками и двумя блюдцами. Я его и сам потом стал показывать, приводил в такой же восторг и недоумение всех своих студентов. Фокус основан на законах внимания: трюк совершается до того, как начался сам фокус. Пока говоришь и готовишь фокус, ты его уже сделал. Весь процесс дальше – чистое художественное шаманство. Я папу застал в состоянии абсолютного владения этим мастерством.
Папа очень любил цирк. И нам с сестрой Катенькой эту любовь передал. Помню, пошли мы с ним и сестрой на какое-то цирковое представление. Ощущение свежего запаха опилок, конского пота, навоза, закулисное рыканье львов… Все это очень будоражило мою детскую фантазию.
Выступал, помню, какой-то югославский фокусник. Он делал какие-то трюки на сцене, а потом пошел к зрителям. Первый ряд обошел. Мы сидим во втором: папа в центре, слева и справа от него сестра и я. Фокусник этот подходит к разным людям, что-то достает из их карманов, задает вопросы: «Вы не играете в карты? А вот у вас колода в кармане». И вот он к нам подходит, что-то такое говорит, тоже что-то достает. Потом замечаю у него легкую заминку, и дальше он, глянув на папу, делает какой-то странный, едва заметный жест. И уходит. Возвращается на арену, кланяется, звучат аплодисменты. Он говорит: «Никто ничего у меня не забыл?» – и вдруг вынимает из карманов связки наручных часов. И папа в этот момент говорит: «Я знал, что он снимает часы, и не поддался. Он попытался и понял по мне, что я все знаю».
Папа прекрасно знал многих цирковых артистов, их терминологию. Потом уже и я в институте стал дружить с цирковыми – Волжанскими, Бегбуди, Дуровыми. В нашей семье вообще уважение, интерес и любовь к цирку были от отца. То же самое и с музыкальной классикой. Папа знал симфоническую музыку, обожал дирижеров, объяснял мне с детства рассадку оркестра. Часто это бывало в Юрмале, в концертном зале «Дзинтари» в Майори, это очень важные места моего детства.
Папа же родился в Риге. Рижское взморье вообще было очень полезно для его здоровья, и мы часто летом туда ездили. Останавливались, как правило, в Майори, в пафосных санаториях ЦК партии Латвии. А на соседних улицах в частных домах жили папины родственники – двоюродные, троюродные братья. Я их до сих пор встречаю, но уже больше по миру.
В Юрмале концертный зал «Дзинтари» был площадкой прежде всего для больших симфонических коллективов. В детстве и отрочестве этот зал был для меня очень значимым местом. Папа регулярно меня туда водил. Я там видел и Геннадия Рождественского, которого папа очень чтил как дирижера и считал одним из лучших в своем деле, и Кирилла Кондрашина, он потом эмигрировал. Они в Юрмале давали концерты и заодно немножко отдыхали.
В Малом зале, закрытом, выступали камерные коллективы. Например, замечательный оркестр Рудольфа Баршая. Там пела Зара Долуханова, как скрипач начинал Владимир Спиваков. В то время директором Юрмальской филармонии был, если не ошибаюсь, Александр Литвак. Я хорошо его помню: изысканный, аристократичный, интеллигентный человек с нервным лицом. Он был очень импульсивным. Приучал публику приходить вовремя, не опаздывать, выдерживал нечеловеческие бои за это, претензии, недовольства. Юрмальская публика была ведь такой необязательной: расслабленная атмосфера, отдых…
Папа не только объяснял мне рассадку оркестра, но и говорил о паузах между частями, когда нельзя аплодировать, о дирижерах. Сильно позже я к этому профессионально прикоснулся, когда занимался пьесой «Контрабас» Зюскинда. Но вкус к музыке я приобрел, конечно, благодаря папе. Так было и с художниками: папа знал и любил живопись, многое мне объяснял. Он рассказывал про архитектуру, гуляя со мной по Ленинграду. Показывал, что такое ансамбль улицы, говорил о великих зодчих Петербурга: Росси, Кваренги, Растрелли, скульпторе Фальконе. Он учил меня понимать прекрасное.
Я хорошо помню мой первый сольный концерт в Майори, в том самом зале «Дзинтари», где мы с папой смотрели и изучали рассадку оркестра. Это уже было во времена, когда я стал довольно популярным артистом. В зале на полторы тысячи мест был аншлаг. Есть среди администраторов такой термин: «Он собирает» – так они говорят про артиста, который обеспечивает заполнение любого зала. Лет пятнадцать-двадцать в моей карьере было так, что, ткнув пальцем в любой кружочек карты Советского Союза, я знал, что своим именем обеспечу там аншлаг.
Помню, что на этот концерт в «Дзинтари» пришли мои родители. Это был сольный вечер чистого актерского лицедейства: я показывал очень много зарисовок, смешил публику и в этой же программе около получаса читал стихи Самойлова, Заболоцкого, Мандельштама, а потом танцевал. После концерта папа мне сказал: «Обязательно читай стихи!» Помню, я ответил, что это зависит от публики… И папа сказал: «Нет, знаешь, какой бы ни была публика, обязательно это делай. Таким образом ты даешь возможность и о себе полнее рассказать, и придаешь всему происходящему другой объем, глубину, говоришь об очень серьезных вещах. Правильно, что ты читаешь Мандельштама. Нужно читать сложные стихи. Не должно быть только смешно и весело».
В детстве я был ужасно стеснительным. Родители иногда за границу выезжали, привозили мне оттуда одежду – предмет моих мучений. Вещи эти были для меня неприемлемы, но тогда я еще не выбирал, во что одеться, меня одевали взрослые.
Когда выходил во двор в чем-то новом, я так стеснялся своей одежды, что ни с кем не играл. Пальто и шубки на каких-то модных клычках-пуговичках… У нас такое не носили, я ужасно страдал от стеснения. Вся эта одежда была мне к тому же велика, куплена на вырост, не по моему размеру…
Еще из воспоминаний о моих детских позорах и мучениях. На спектакли, которые я с раннего детства смотрел, скажем, в БДТ, я ходил с няней Тасей. И на меня опять надевали какие-то немыслимые штаны, которые были мне велики, какую-то ужасно вычурную нечеловеческую кофту, не как у всех. При этом Тася тащила меня маленького за руку со словами: «Пустите, это сын Райкина идет!» Я весь сворачивался, прятал лицо. Я вообще часто в детстве представлял собой рулон, для меня подобные слова Таси были проклятием. Самые чудовищные позоры моего детства.
Я уже тогда, ребенком, очень не хотел, чтобы ко мне относились как к сыну знаменитого артиста. И я всячески пытался из этого положения выйти. Когда кто-то в детстве смотрел на меня горящими от любопытства глазами и спрашивал: «Мальчик, а как твоя фамилия?», я всегда с полной уверенностью говорил: «Векслер». И человек сразу обламывался. Был у меня дружок Юлик с такой фамилией. Мне она казалась весьма подходящей для таких случаев.
Как и все дети, я очень чувствовал фальшь. Всегда очень не хотел, чтобы ко мне относились как-то иначе, чем как именно ко мне лично. Крайне болезненно подобное воспринимал. Сейчас я могу на себя тогдашнего смотреть как на другого человека (как если бы изучал какую-то обезьяну, от которой произошел), и во многом мне этот ребенок очень нравится. Есть что-то, что мне очень дорого в том, каким я был. Например, я хотел получать только то, что заслужил сам, не желал иметь дивиденды от имени своего отца и вообще никаких падающих на меня лучей папиной славы.
У меня есть ощущение, что я был очень послушным. Родители не воспитывали меня как-то специально, почти не вели со мной назидательных бесед. Мое детское понимание, что хорошо, а что плохо, складывалось из того, что было принято в нашей семье, шло от родителей. И я это мгновенно понимал, считывал без слов.
В каком-то еще совершенно детском возрасте я почуял, что в материальном смысле мои родители благополучнее многих. Однажды мама сказала: «Мы не можем это купить, очень дорого». Тогда я сказал: «А у папы в одном кармане тыща и в другом кармане тыща». На всю жизнь я запомнил, как мама меня тогда пристыдила за эти слова, потом еще и папе сообщила, и он сказал: «Фу!» Помню, что от стыда и позора я залез под стол. Никаких больше объяснений мне не потребовалось. Мгновенно я понял, что говорить и думать так очень нехорошо.
Вообще, про папины заработки в то время ходили басни. Как артист эстрады разговорного жанра – так это, кажется, тогда называлось – он получал за спектакль сорок рублей. Играя в месяц двадцать спектаклей, он зарабатывал восемьсот рублей. Конечно, это было много – такой была зарплата советского академика. При этом папа получал разительно меньше, чем, например, печатавшиеся в то время известные писатели. Таких денег у папы никогда не было.
Еще из воспитательных моментов помню, как папа рассказывал мне про одного виолончелиста. Делал он это очень увлеченно, как большой поклонник симфонической музыки. А я у него неожиданно спросил: «А кто знаменитее: он или ты?» Папа сразу замолчал и вдруг ужасно помрачнел. Он по гороскопу Скорпион, у него была сильнейшая энергия, атмосфера вокруг него возникала или менялась безо всяких дополнительных опознавательных знаков. Он посмотрел на меня из-под полуприкрытых век и сказал: «Никогда больше таких глупых вопросов мне не задавай». И я буквально почувствовал, как у него испортилось настроение.
А когда оно у папы портилось, пространство вокруг сгущалось и тяжелело. Помню, когда я уже совсем взрослым пришел в папин театр работать, мне говорили: «Вот ты бегаешь-орешь по театру, а пользы чуть. А Аркадий Исаакович тихим голосом что-то говорил, и человек сразу подавал заявление об уходе. Вот это эффект!»
Бывали, конечно, в нашей семье стычки в пределах огромной любви. Помню, я как-то в своей комнате уединился, что-то сочинял перед зеркалом, танцевал. В такие моменты я не терпел, когда кто-то ко мне заходил: для меня это были моменты абсолютной свободы и сосредоточенности. Я был жутко стеснительным и только сам с собой, стоя перед зеркалом, мог как-то раскрепоститься. В один из таких моментов мама и заглянула, и я сгоряча сказал ей что-то грубое. Она тогда на меня обиделась…
Бывали, естественно, какие-то нервы и слезы, но в общем и целом у нас была совершенно счастливая любящая семья.
Мама, конечно, со мной больше разговаривала, чем папа, всегда мне что-то объясняла. Она была внимательной, открытой. Была моим духовником. Она часто читала мне вслух. Сначала я носился, не слушал – был очень подвижным ребенком. «Сынок, ну давай я тебе почитаю». И начинала своим замечательным голосом читать так проникновенно и хорошо. У нее были очень ясная дикция, красивый голос. Мама могла заплакать, читая трогательные сцены из классики. Поначалу я вертелся, но она как-то увлекала меня, гипнотизировала тоном.
Мама часто читала мне Тургенева: стихотворения в прозе, «Записки охотника». Особенно я полюбил два рассказа: «Чертопханов и Недопюскин» и «Конец Чертопханова». Они произвели на меня оглушительное впечатление.
Мама была образованней папы и всегда ему подсовывала нужные книги, писала за него статьи, отвечала на письма от его имени, была оратором, ясно мыслила, прекрасно формулировала свои мысли, писала рассказы. Словом, была интеллектуальным центром нашей семьи и вообще литературно одаренным человеком. И жизнь свою папе посвятила. Без нее он не был бы тем Аркадием Райкиным, которого все знали и так любили.
Когда маме было шестьдесят, у нее случился инсульт. Тогда ее спас Володя Кассиль, замечательный врач-реаниматолог, сын Льва Абрамовича Кассиля от первого брака. В некотором смысле по счастливой случайности мама была в гостях у Кассилей, когда это произошло. И Володя был рядом, буквально вытащил ее с того света.
После инсульта мама прожила еще шестнадцать лет. У нее была частичная потеря речи, и все это было довольно печально. Она очень изменилась – стала не такой, как была раньше. Все это было горько переносить, особенно, конечно, папе. Но и нам с Катенькой тоже.
До болезни мама была яркой, веселой, остроумной и обаятельной. Вне сцены, в публичных общениях, в диспутах она нередко брала на себя папину роль и делала это блистательно. При всей своей скромности она умела обратить на себя внимание, когда это было нужно, умела заполнять паузы и пустоты. Все годы после маминого инсульта папа вел себя невероятно трогательно и внимательно по отношению к ней. Видимо, он решил для себя, что в том, что с мамой произошло, отчасти есть его вина.
Я, если честно, кое-что от мамы в себе замечаю, притом что с папой у нас было духовное родство и близость. Но он всегда был погружен в себя. По много раз можно было у него спрашивать о чем-то, а он все время словно куда-то опрокидывался, смотрел поверх голов, будто зависал. Он подолгу мог всматриваться в картины, которые у нас дома висели. И вдруг начинал их перевешивать, привлекая всех к этому занятию. «У нас есть стремянка?» – спрашивал. И начиналось перестукивание, долгое, скрупулезное, утомительное для меня, бессмысленное перевешивание картин… Понять его логику было невозможно. А если я пытался слинять, он обижался.
Папа всегда был занят. Он постоянно находился в творческом процессе, до него было сложно достучаться. Хотя он очень нас с Катей любил, просто был дальше. Папа был очень ласковым. Помню эти мягкие, теплые, тяжелые руки. У него были огромные, пухлые с внутренней стороны кисти рук – они напоминали мне коровье вымя.
Папа ко мне очень хорошо относился как к актеру, но это уже потом. Помню, как однажды мы с ним и мамой гуляли в парке. Мне лет одиннадцать или двенадцать. Там была круглая клумба с пешеходной дорожкой вокруг. Вдруг папа мне говорит: «А хочешь, я сейчас узнаю, можешь ли ты быть артистом или нет? Попробуй сделать такой круг вокруг клумбы: родиться, поползти, потом научиться ходить, потом стать дошкольником, потом школьником, потом подростком, потом юношей, потом молодым человеком, потом взрослым, зрелым, потом немножко пожилым, еще более пожилым, потом старым, а потом умереть, вернувшись в ту же точку, в которой ты родился. Сможешь сделать все это за один круг?»
Мне стало очень интересно, и я проделал все это сразу и не останавливаясь. Папа тогда ничего не сказал. Но я хорошо его знал и увидел, что ему понравилось: как-то выразительно они с мамой переглянулись…
Второй похожий случай был в Венгрии. Надо отдельно сказать, что в Венгрии папа был самым известным зарубежным гастролером. Понятно, что он весь социалистический лагерь за свою жизнь проехал: Польша, Чехословакия, Германия, Румыния, Болгария. Везде выступал на языке страны.
Венгерский язык очень сложный, совершенно локальный, но папа и все актеры его театра весь трехчасовой спектакль играли на венгерском языке. Потом еще раз пять папа приезжал в Венгрию с новыми спектаклями и всякий раз играл на венгерском. У него, конечно, были большие способности к языкам, к тому же папа был невероятно работоспособным.
Валамиван – по-венгерски значит «кое-что есть». У папы был монолог скептика, в котором рефреном звучало: «Нет, есть, конечно. Кое-что есть. Но не то…» Это делалось ритмично, с определенными жестами и мимикой. Так вот, эта фраза «валамиван» в Венгрии стала народной присказкой. Огромный будапештский универмаг назывался «Валамиван» – по цитате из папиного монолога.
В общем, в Венгрии Аркадий Райкин был очень популярен, он даже отдыхал на озере Балатон «с семьей», ему это позволяли. Отдыхать за границей, да еще по высшему разрешению венгерского партийного руководства – тогда это было очень необычно, практически беспрецедентно. Помню, родители строго-настрого запретили мне говорить в школе, что летом я ездил за границу. Они объяснили, что никакие привилегии, которые имеет наша семья, в принципе не должны в школе обсуждаться.
Про Венгрию, к слову, вспоминается еще такой случай. Папа был человеком, который производил впечатление потомственного аристократа, притом что был сыном лесного бракёра. Он одевался с большим вкусом, прекрасно знал этикет, чувствовал стиль. А мама, выросшая в семье интеллигентов, вела себя при этом очень свободно. Я помню, что за границей среди нас троих нередки были такие смешные сцены.
Ресторан. Привилегированный дом отдыха на озере Балатон. На нашем столике стоит флаг Советского Союза. Мы едим, и папа постоянно шепчет маме:
– Осторожно! Ну осторожно, ты же капнешь сейчас. Ну я же тебе говорю, капнешь! Нам уже второй раз меняют скатерть…
– Аркаша, ты можешь не делать мне все время замечания? Мы сделаем вот что: я сейчас оболью тебя, себя, все стены, и мы наконец будем есть спокойно.
И вот мы в очередной раз в Венгрии, мне пятнадцать лет. Папу пригласил на встречу какой-то детский лагерь, а у него ничего подходящего для этого зрительского возраста не было. Я к тому времени придумал и показывал в своей ленинградской школе номер «Весенние картинки» – это была цепочка пантомим на тему весенних настроений. И вдруг папа мне говорит: «Слушай, может, ты меня выручишь, покажешь что-нибудь из своего?» Я тогда очень запомнил эту его фразу. Для меня это было значимо.
Папа более или менее знал немецкий язык. Однажды у него было выступление в Западном Берлине на Всемирном фестивале пантомимы. Причем его неправильно информировали: он думал, что будет в жюри, а ему пришлось выступать перед немецкой публикой, среди которой нет ни одного русского человека. Он срочно вызвал к себе завпоста Юзика, знатока всего репертуара театра, и тот помог папе подготовиться. За считаные дни и часы до выступления он выучил наизусть большие куски текста на немецком.
Папа дважды создавал спектакли и на английском языке, они с театром дважды ездили в Лондон. Я помню его с переводчиками: он много занимался, наговаривал им тексты, они его исправляли. Понятно, что говорил он с акцентом, но в результате фильм, снятый в Лондоне на BBC, имел огромный успех.
Советская семья
Я был совершенно советским ребенком. И вообще, у нас была очень убежденная советская семья. Папа был человеком задумывающимся и, конечно, обладавшим какой-то дополнительной информацией, но по своим убеждениям все равно был очень советским человеком. Считал, что недостатки советской жизни – это болезни роста, что их можно побороть.
Он вообще в какой-то момент стал как актер очень себя ограничивать. Искренне считал, что не может в новом спектакле позволить себе какие-то просто обаятельные, смешные, лирические, музыкальные вещи. Темы его спектаклей все более и более обострялись, Театр миниатюр становился в некотором смысле «театром при Госплане»: папа говорил со сцены о шпунтах, прибавочных стоимостях, экономических проблемах. Он, конечно, во всем этом мало разбирался, подходил скорее эмоционально, с художественно-эстетической точки зрения. Но при этом у него были очень серьезные консультанты-экономисты.
Папа был артистом с огромными возможностями, но с какого-то момента сознательно для себя решил, что у него на сцене такая узкая дорога – говорить непроговоренные вещи, о которых другие молчат, и следовал этому беспрекословно.
Поскольку он был человеком очень самоедского характера, ему несвойственно было почивать на лаврах. Он был любимейшим артистом в стране, а домой приходил и говорил: «Как ужасно я сегодня играл, боже мой, как ужасно… Я себя сегодня плохо чувствовал…» Такое бывало иногда.
Кассили – Собиновы
Благодаря родителям я с детства был знаком с некоторыми совершенно уникальными людьми. Новогодние праздники мы, дети, часто встречали у Льва Абрамовича Кассиля в Камергерском переулке. Он жил в невероятной квартире Леонида Витальевича Собинова, великого оперного певца, был мужем его дочери – Светланы Леонидовны Собиновой.
Их квартира казалась мне в детстве огромной. Когда я попал туда, уже будучи взрослым человеком, понял, что ничего огромного там нет. Но девять комнат… Для советских масштабов это было почти невероятно.
В этой квартире устраивались разные детские праздники, Лев Абрамович очень умел разговаривать с детьми: простой, естественный, остроумный, артистичный человек! Умный и веселый. Один из лучших людей, которые мне в жизни встречались.
А что висело на стенах этой Камергерской квартиры, я только потом стал понимать. Врубель, Коровин, Бакст, Бенуа – подлинники. Там, к слову, висел портрет Нины Ивановны, жены Леонида Витальевича. Я ее знал уже, когда она была очень пожилым человеком, старухой. И это, конечно, были такие раскопки красоты, реставрация. А на портрете она была невероятной, потрясающей, просто фантастической красавицей. Это был портрет работы художника Савелия Сорина, который писал только самых красивых девушек Москвы.
Про Нину Ивановну Собинову есть легенда… Не знаю, можно ли с этической точки зрения это рассказывать. Я эту историю слышал от мамы. Она была очень близка со Светланой Собиновой, дочерью Леонида Витальевича.
У Леонида Собинова был первый брак. И одновременно была некая влюбленная в него молодая красавица, она ходила на все его концерты, выступления, спектакли. Каким-то образом у них завязался роман. Эта особа была дочерью очень крупного фабриканта, богатейшего человека. Собинов должен был ехать с женой на гастроли в Париж в двухместном купе, которое теперь зовется СВ, и уже были куплены билеты.
И вот однажды эта богатая девушка, а это и была Нина Ивановна, в отсутствие Леонида Витальевича пришла в дом, где была жена, и все ей рассказала: «Я люблю вашего мужа, а он любит меня, у нас такие вот отношения». Дальше она выложила на стол какую-то гигантскую, просто немыслимую сумму, целое состояние, и сказала: «Продайте мне ваш билет в Париж». Она предложила деньги, за которые хотела выкупить Леонида Витальевича. И жена Собинова согласилась на это, потому что, видимо, понимала, что их отношения дышат на ладан.
При этом в старости (это я уже застал сам) Нина Ивановна была скуповата, и скрыть это было совершенно невозможно. Дочь Нины Ивановны и Леонида Витальевича, тетя Светлана, так я ее называл, преподавала в ГИТИСе актерское мастерство. Она была очень красивой женщиной, хоть я и знал ее уже очень взрослой, а сам еще был ребенком. Светлана Леонидовна обладала сильным характером, ее всегда было очень хорошо слышно, она была обаятельной, очень открытой и гостеприимной. А ее мама, Нина Ивановна, говорила мне, когда я у них бывал в гостях: «Ты уже брал конфету…» Тетя Светлана в такие минуты просто взрывалась: «Мама, это что такое?! Прекрати это сейчас же!» Нельзя сказать, что я был какой-то уж очень большой сладкоежка. Ну взял конфетку, захотел другую. Это, конечно, очень деликатные моменты. Сейчас вспоминаю с улыбкой и теплом.
Леонид Утёсов
С маленького возраста я знал и Леонида Осиповича Утёсова, называл его дядя Лёдя. Я помню, как родители меня возили в Кисловодск, там я его, по-моему, и увидел впервые. Вспоминается фотография Кисловодска, в котором выпал первый снег.
Утёсов иногда приходил к нам в гости. Он был обаятельнейшим и очень образованным человеком, особенно по части классической музыки – обладал просто энциклопедическими знаниями. А еще он был фантастическим рассказчиком.
Будучи уже взрослым, вспоминаю, какое сильное впечатление на меня производили его рассказы о скрипачах и музыкантах. Это он рассказал историю, как к Ойстраху, который гастролировал в Америке, после концерта пришел Яша Хейфец. «Я под большим впечатлением, вы мастер. Я вас считаю вторым скрипачом в мире!» Ойстрах спросил: «А первый кто?» Хейфец махнул рукой и ответил: «А, первых много…»
Он сказал это достаточно пренебрежительно. И в этом есть, помимо шутки, очень глубокая мысль: иногда ценнее и правильнее быть вторым, потому что «первых» действительно много… Кто лучше: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Боттичелли или Тициан? А вот Эль Греко? Он ведь второй! Но какой второй, боже… Конечно, это очень условное и даже примитивное деление.
Однажды я прочел у Сомерсета Моэма интересную мысль о том, что кого-то могут отпугнуть величие и монументальность «Войны и мира». Что-то свое он найдет в камерных рассказах другого, менее великого, чем Толстой, писателя. Для меня, например, Николай Лесков, наверное, второй. Грандиозный, великий писатель, как и Тургенев. Но если ставить их в один ряд с Толстым, Достоевским, Гоголем, Чеховым, Пушкиным, то в общепринятом смысле они, конечно, вторые. Вот и получается, что первых много, а условно второй Лесков – единственный в своем роде. Единственный и неповторимый.
Вообще, этот пьедестал почета в искусстве – большая глупость. Мастера соревноваться не должны. Мастер в искусстве – это человек, который свое дело делает так, как не может больше никто. Соревнование – удел подмастерьев.
Корней Чуковский
На лето родители снимали дачу в Переделкино, жили у Кассилей, на их ведомственной даче от Литфонда (там сейчас живет Дмитрий Бак, я только недавно это узнал). Маленькие такие домики, а тогда мне казалось, что огромные. Иногда мы бывали там по субботам и воскресеньям.
В то время в Переделкино я и познакомился с Корнеем Ивановичем Чуковским. Лет пять мне было, когда я в первый раз в гости к нему попал. Я тогда уже понимал, кто он, читал его «Бибигона», «Федорино горе», «Тараканище».