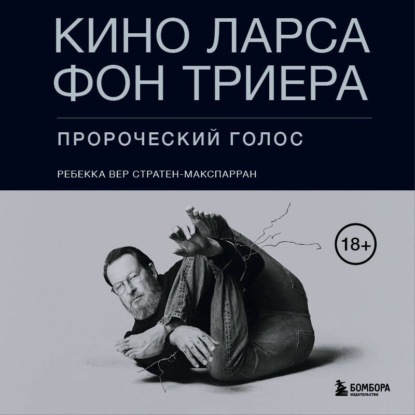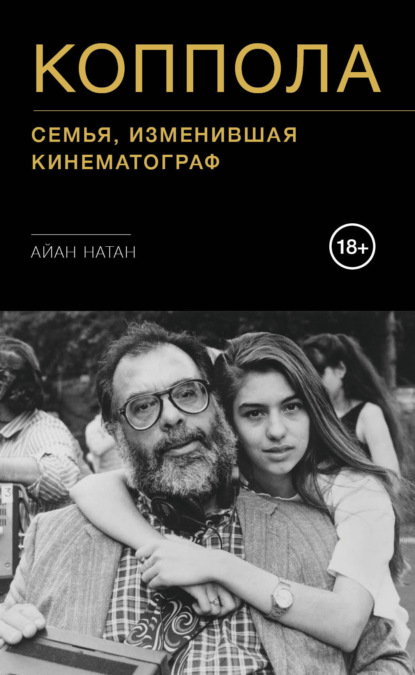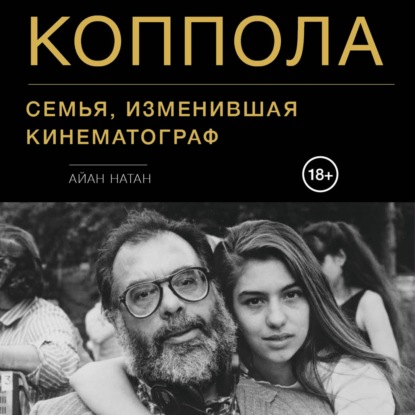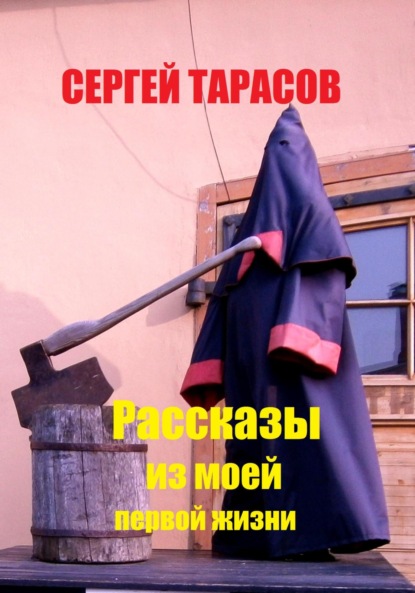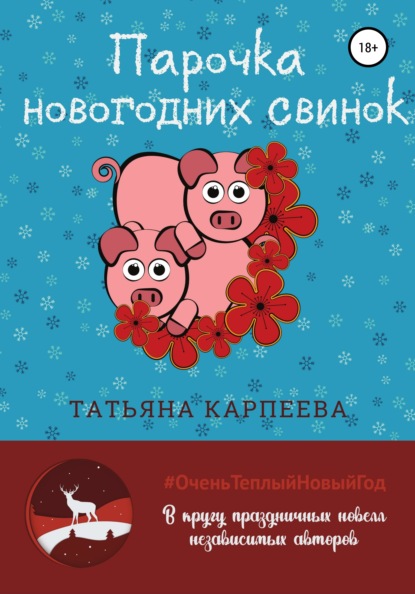Кино Ларса фон Триера. Пророческий голос
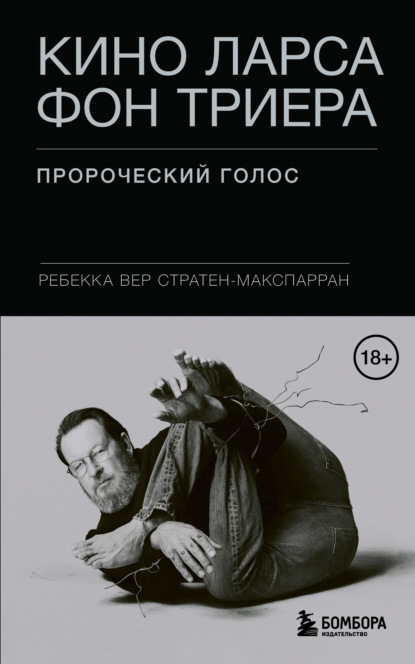
Издательство:
ООО «Издательство «Эксмо»
Метки:
анализ художественных произведений,знаменитые драматурги и режиссеры,философия искусства,современное искусство,киноиндустрия,киноискусство,киноведение,творческая биография,исследования творчества,культовые режиссерыЖанры:
биографии и мемуары,зарубежная публицистика,кинематограф / театр,искусствоведение,зарубежная литература о культуре и искусствеПеревод:
А. Е. РытвинКниги этой серии:
«Кино должно быть неудобным – как камешек в ботинке». – Ларс фон Триер
Ларс фон Триер – имя, звучащее как приговор, как шепот из самых темных уголков человеческой души. Режиссер-провокатор, визионер, чьи фильмы – не развлечение, а визуальный катарсис.
Он не стесняется боли, не боится уродства, и в этой смелости – его пророческий дар.
От догматичной аскезы «Идиотов» до эмоциональной мощи «Танцующей в темноте», от философского мрака «Меланхолии» до скандальной откровенности «Нимфоманки», Триер создал кинематографическую вселенную, где красота неотделима от страдания, а истина рождается в муках.
Книга «Кино Ларса фон Триера: Пророческий голос» – это не просто анализ фильмов, это путешествие в лабиринт сознания одного из самых значительных режиссеров современности. Она исследует эстетику избыточности и природу Зла, раскрывая глубинные смыслы, скрытые за шокирующими образами.
Эта книга – ваш проводник в мир Ларса фон Триера, если вы:
– испытываете отвращение и вместе с тем очарование его фильмами и хотите понять природу этого притяжения;
– стремитесь к глубокому анализу кинематографического языка и авторского стиля;
– интересуетесь философией кино и тем, как экран может отражать и предсказывать социокультурные сдвиги;
– цените интеллектуальное кино, выходящее за рамки развлекательного контента;
– хотите разгадать загадку гения, балансирующего на грани безумия.
Внутри вы найдете:
– детальный разбор ключевых тем в фильмографии Триера: от экзистенциального отчаяния до социальных и политических прозрений;
– исследование визуального стиля режиссера: от ручной камеры Dogme 95 до завораживающей операторской работы в поздних фильмах;
– анализ противоречий и скандалов, сопровождающих творчество Триера, и их влияния на восприятие его фильмов;
– глубокое погружение в символизм и метафоры, которыми насыщены его кинематографические полотна.
«Кино Ларса фон Триера: Пророческий голос» – это не книга для легкого чтения. Это интеллектуальный вызов, приглашение к серьезному разговору о кино как искусстве, способном определять наше восприятие реальности и заглядывать в будущее.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.