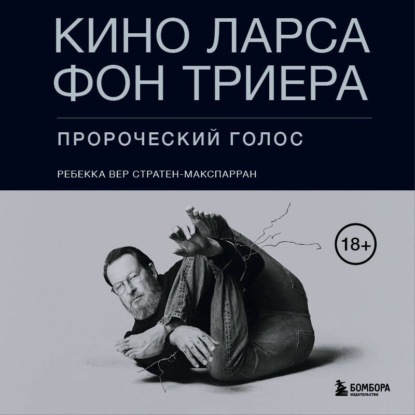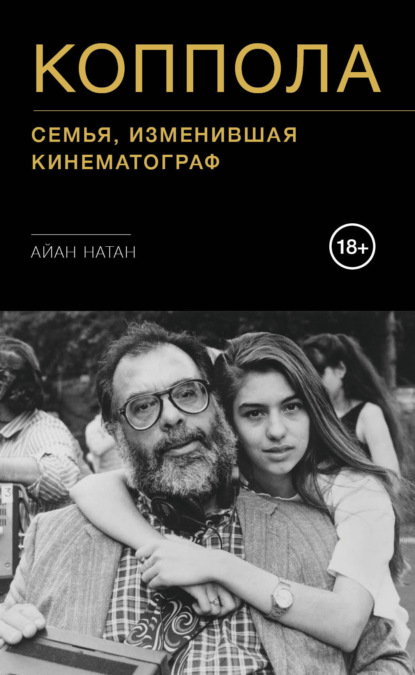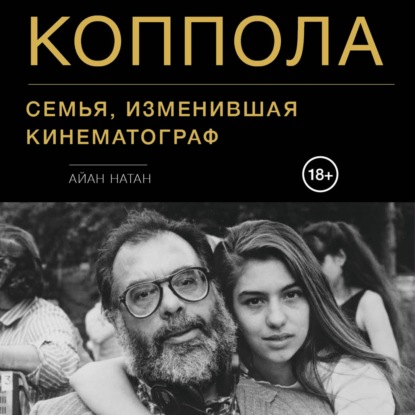Кино Ларса фон Триера. Пророческий голос
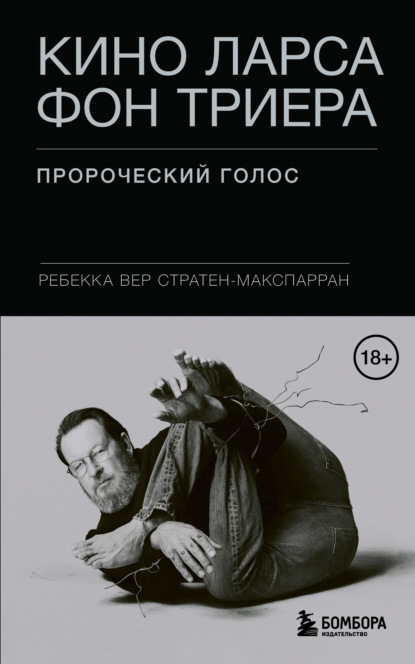
- -
- 100%
- +
Что подчеркивает его провокация, так это стремление показать, как клишированное изображение мужчины и женщины, Его и Ее, маскулинного и фемининного, выходят за рамки фундаментальных основ бинарности гендера, которым фон Триер в любом случае скорее бросает вызов, чем дает одобрение. Примечательно, что его фильмы призывают женщин упиваться неподобающей женственностью.
(Honig and Marso, 2016, с. 11)В-третьих, показное женоненавистничество и откровенные сексуальные сцены в фильмах фон Триера временами явно ироничны и носят комедийный характер, скрывая за этим серьезность намерений режиссера. Это можно увидеть в одной из сцен «Нимфоманки», в которой двое африканских мужчин спорят о сексе с Джо, а она молча наблюдает за ними, комично обрамленная их пенисами. Тем не менее цель, которую фон Триер преследует своей иронией, – провокация. Розалинд Галт[9] отмечает, что фон Триер с помощью иронии создает двойной эффект, дестабилизирующий зрителя. Говорящий лис в «Антихристе» одновременно ужасает и смешит – сопоставление столь разных эффектов вызывает неловкий смущенный смех, в то же время усиливая провокационность (Galt, 2016, с. 85). Рассказчик из «Догвилля» иронически соглашается с противоречивым заявлением о том, что Грейс уничтожила целый городок «во имя человечества». Ангелос Куцуракис[10] комментирует это следующим образом:
Голос за кадром становится ироничным и показывает, как апелляции к морали и «общечеловеческим ценностям» могут служить определенным социальным интересам. Самоотречение и безоговорочная отдача выставляются симулякрами, за которыми скрываются более глубокие политические процессы и конфликты.
(Koutsourakis, 2015, с. 181)Провокация зрителей с помощью иронии, в деталях исследованная Розалинд Галт, является неотъемлемой частью пророческих деяний. Хотя не любая ирония в фильмах фон Триера может считаться пророческой, некоторые ее примеры сами собой попадают под это определение, потому как ирония является частью инструментария библейского пророка. Как пишет Майкл Фишбейн:
Пророчества Иезекииля с поразительной ясностью раскрывают, что ироническая риторическая стратегия всех израильских пророков – это привести неверующих и невежественных людей к верности завету и осознанию божественного Господства.
(Fishbane, 1984, с. 131)Ирония в книге Иезекииля порой доводится до абсурда, превращаясь почти в насмешку, чтобы шокировать людей и заставить их задуматься. Пророк искажает и выворачивает наизнанку ожидания, давая своим слушателям понять, что в этот момент происходит нечто совершенно невиданное, порожденное непостижимым Богом, которого, как им казалось, они так хорошо знали.
Четвертое направление критики, исходящее из христианской традиции, ставит под сомнение достоверность пророческого голоса или пророчества, не имеющего чистого, непогрешимого, безгрешного посредника или источника. Еврейская традиция, очевидно, считает Моисея величайшим из когда-либо живших пророков, однако он в гневе убивает египтянина и вынужден спасаться бегством. Когда Бог, то есть Яхве, приказывает Моисею ударить по скале, чтобы высечь из нее воду для скитающихся израильтян, тот бьет по ней в гневе. За этот проступок Яхве запрещает Моисею входить в Землю Обетованную. Пророк Осия женится на проститутке, что обычно считается греховным деянием, однако в данном случае это повеление Яхве. Папа Бенедикт XVI заявляет: «Папа Римский – не оракул. Как мы знаем, его очень редко можно назвать непогрешимым» (ZENIT, 2011), и только когда речь идет о заявлениях ex cathedra[11], касающихся доктрины. История Священного Писания от Моисея, царя Давида, пророка Валаама до апостолов Петра и Павла показывает, что Бог действует через человеческую слабость, чтобы нести свет и исцеление другим (2 Кор. 4:7). Павел заявляет: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (Рим. 3:23–24). Наконец, Святой Бог по большей части отсутствует в сюжетах фильмов Триера, и это могло бы опровергнуть утверждения, что духовный конфликт занимает в них центральное место. Хотя Господь предлагается только как своего рода via negativa, Бог раскрывается в этом аргументе как незримое мерило, с которым сопоставляется все вокруг. Из-за этого Триера часто считают пуристом, придерживающимся необъяснимого стандарта, не поддающегося легкой категоризации, но который называют «аутентичным» (Бейнбридж), «этическим» (Бэдли, Аарон, Куцуракис, Хониг и Марсо и др.), «жестким» и «трактующим истину… как честность и праведность» (Aaron, 2007, с. 108). Но если фильмы обращены к зрителю, который не верит в зло, не говоря уже о трансцендентном и триедином Боге, они мешают собственному посланию, когда демонстрируют очевидного Бога, очевидное покаяние и очевидную благодать. Произведения Фланнери О’Коннор, например, приобретают дополнительную силу благодаря тому, что она находит более тонкий способ изобразить в них Бога.
Я исследую пророческий голос в фильмах фон Триера, интерпретируя их через призму библейской пророческой литературы и сопоставляя их с пророчеством Иезекииля. Как говорилось ранее, сюжеты Иезекииля и фон Триера проникают в их читателей и зрителей, критикуют и разоблачают их, вызывая тревогу. Оба имеют репутацию дестабилизирующих критиков своих культур: фон Триер – провокатора экстремального художественного кино, а Иезекииль – возмутительного пророка, который действует и выражает невыразимое во имя Бога. Однако в этой книге я рассматриваю не Триера как пророка, а пророческий голос, исходящий из самих его фильмов.
Критические исследованияЦентральное место эксцесса в творчестве фон Триера, которое можно наблюдать в сюжетах, монтаже, операторской работе, музыке, звуке (DeWolfe, 2009), оммаже и смешении жанров (Bainbridge, 2007) (например, порнографии и хоррора), мешает восприятию его работ как глубоко проницательных и интеллектуально последовательных. Эти элементы доведены до крайности, отчего с выходом каждого нового фильма приводятся аргументы в пользу того, что эксцесс в его фильмах высмеивает предлагаемые или предполагаемые смыслы (Moore, 2019). Если в кинематографе фон Триера присутствует пророческое озарение или предвидение, то его необходимо ввести в диалог с эксцессом, пронизывающим фильмы на всех уровнях, как диегетических[12], так и недиегетических.
Независимо от того, превозносятся ли произведения фон Триера, оправдываются или критикуются, в его творчестве есть глубина, которая заставляет задуматься о психологических, политических, философских, этических и теологических аспектах. И эта рефлексия усиливается с годами в разных дисциплинах. Его фильмам посвящен широкий спектр исследований, но среди них можно выделить пять основных подходов, пересекающихся в некоторых аспектах: теологический, психоаналитический, когнитивный, философский и политический.
Раньше всего интерес к творчеству фон Триера проявился со стороны теологии и религиоведческих исследований, несмотря на эксцессы в его фильмах, которые шокируют, травмируют и содержат сексуальное насилие. Фильм «Рассекая волны» немедленно вызвал интерес теологов благодаря Бесс – возможно, из-за сходства персонажа и ее самопожертвования с Христом.
Уподобленные святым страдающие женщины из трилогии «Золотое сердце» и развитие теологических тем в «Догвилле» сделали эти фильмы особо интригующей темой для теологов-феминисток и тех, кто занимается выявлением связи между насилием, сексуальностью и патриархатом с муками и жертвой Христа. Возможно, наиболее часто цитируемая работа на эту тему – это «Выход за пределы доброты в “Рассекая волны”» Ирены Макарушки (1998). В ней подвергаются критике роли «девственницы» и «шлюхи», которые искусственные парадигмы, существующие в культуре, навязывают женщинам через патриархальные системы. Героиня не является святой мученицей – в конце концов, она «самая обычная женщина» и «приводится немного свидетельств ее веры в загробную жизнь», в которой ее желания будут исполнены, поскольку они связаны с «материальностью жизни и сексуальной близостью» (Makarushka, 1998). По-разному расставляя акценты, Стивен Хит (1998), Кайл Кифер и Тод Линафельт (1999), Линда Меркаданте (2001), Жанетт Риди Солано (2004) и другие считают, что Бесс сохраняет «доброту» в своих трансгрессиях, что по меньшей мере уподобляет ее Христу. В свою очередь Алида Фабер (2003) пишет об этом с осуждением и, напротив, рассматривает ее «доброту» как мазохистскую слабость, оправдывающую сексуальное насилие с целью искупления. Хью Пипер (2010) исследует «Догвилль» и «Мандерлей», чтобы пролить свет на «суровое правосудие» пророка Амоса. Тем не менее после «Догвилля» теологический отклик на работы фон Триера встречается значительно реже. Несколько авторов, включая Фабер, Гилберта Йео и Карлин Мандольфо, посвятили теологические работы «Танцующей в темноте». Мандольфо (2010) включает Бесс, Сельму и Грейс в описание более сложной христианской реакции через апокалипсис, ссылаясь на Аллана Бусака и апартеид в Южной Африке. Но даже в 2016 году Стивен С. Буш предпочел написать теологическую статью для книги Хониг и Марсо о «Рассекая волны», а не об одном из более поздних фильмов фон Триера. У меня вызывает глубокое сожаление, что, хотя все больше исследователей начинает интересоваться поздними фильмами фон Триера, теологические исследования о них, какую бы точку зрения они ни отстаивали, фактически перестали появляться.
Для критического и нетеологического анализа фильмов фон Триера используются самые разные подходы, такие как фрейдистский психоаналитический подход, направленный на исследование травмы и феминистских представлений об этике; психоаналитическая теория Лакана[13]; когнитивная теория кино; философия Делёза[14] и политический формальный анализ. Я привожу ссылки на эти работы на протяжении всей книги в поддержку моей позиции. Политика идентичности особенно важна для аргументации этой книги, так как религия, подобно полу, расе и социальному классу, является источником социальной и культурной власти.
В своей диссертации и позднее книге «Политика как форма: постбрехтианское прочтение» (2015) Ангелос Куцуракис исследует форму или формальные структуры как центральное средство, с помощью которого можно понять политику фильмов фон Триера. Он утверждает, что смысл фильмов фон Триера заключается в их форме, предназначенной бросить нам вызов и изменить нас политически (Koutsourakis, 2015, с. 16). Если показать мир непривычным, обнажив его искусственность, можно политизировать репрезентацию и переменчивость общества, поставив зрителя в неловкое положение. Куцуракис интерпретирует творчество фон Триера с помощью диалектического метода Брехта[15], который, по сути, тесно связан с герменевтикой интерпретации Рикера (противопоставление двух противоположных идей и придание им новой интерпретации) – что способствует, например, пониманию Ницше как подарка для христианских апологетов в мышлении «по-новому». Диалогическая оппозиция Достоевского, также называемая дуэльной структурой дискурса, и полифония (многоголосие) выполняют аналогичную функцию. Это означает, что все политико-диалектико-герменевтические интерпретации фон Триера находят критические, намеренные очаги напряженности в фильмах, требующие отклика и уничтожающие пассивное созерцание, но Куцуракис находит нечто новое в фон Триере своим сложным анализом формы. О значимости фон Триера он пишет следующее:
Я до сих пор помню свое замешательство, когда впервые посмотрел «Идиотов» (1998), и свою неспособность разграничить внутреннее и внешнее – во многом из-за склонности фон Триера испытывать на прочность безопасную границу между фильмом и реальностью, постоянно возвращая пристальный взгляд и вопросы зрительному залу. Его фильмы вызывали бесконечные дебаты и бурные отклики в фойе кинотеатров и на киносеминарах. Но самое главное, я не могу забыть, как эти дебаты породили романтическое чувство, как будто мы внезапно вернулись в 1960-е и 1970-е годы, когда существовала определенная вера в способность кинематографа бросить вызов политике восприятия и превратиться в радикальное искусство, а не в потребительское… продвигая революционную метакритику конформистских тенденций в кинематографе.
(Koutsourakis, 2015, с. 9)Изучение политической функции фильмов фон Триера как пространств эстетического разрушения, параллельных политике и кинематографу, в настоящее время, на мой взгляд, является наиболее продуктивным способом теоретического исследования его творчества. В книге «Политика, теории и кино: критические встречи с Ларсом фон Триером» редакторы Бонни Хониг и Лори Марсо утверждают, что в основе содержания и целей фильмов лежит увлечение фон Триера клише, поскольку его кинематографические провокации бросают вызов идеологическому климату нашего времени. Они заявляют, что «Фон Триер повсюду видит затаившееся зло и удушающую хватку усыпляющих бдительность жизнерадостных клише (которые отрицают или затушевывают скрывающееся за ними зло)». За этим в книге следует цитата из интервью самого фон Триера: «Я в страхе ожидаю будущего… это все равно что смотреть за волком, расплывающимся в улыбке» (Honig and Marso, 2016, с. 3).
Хониг и Марсо утверждают, что с помощью иронии и гиперболизации существующих клише о власти, гендере и политике возможно направить демократическую и феминистскую теории по новому пути. Это потенциально способно освободить теоретиков из плена их собственной апатии и предоставить им возможность мыслить в новых направлениях. Они не только считают фон Триера «зорким свидетелем эпохи и кинематографическим мыслителем», как утверждает Томас Эльзессер в этой главе, но «из-за удивительного открытия, что этот так называемый “режиссер-женоненавистник” снимает радикально феминистские фильмы; что его мрачное видение является частью восстановительного проекта всемирной заботы; что его предположительно человеконенавистнические фильмы глубоко гуманистичны» (Honig and Marso, 2016, с. 2). Это некоторым образом перекликается с темой данной работы, что видно из стремления Хониг и Марсо прислушаться к голосам религиозной традиции (глава Стивена С. Буша), однако в очередной раз обескураживает, что в их книге рассматривается только откровенно религиозный фильм «Рассекая волны», причем сразу в двух главах.
Должно быть совершенно ясно, почему я считаю, что фильмы фон Триера достойны изучения. Хотя вызывает разочарование тот факт, что в последнее время теологи не уделяют его творчеству должного внимания, этот подход открывает путь для осмысления его творчества в новом ключе: через понимание того, что оно несет с теологической точки зрения, и того, что воздействие, которое оно оказывает на зрителя, имеет теологическое значение. Я убеждена не только в том, что в корпусе исследований кинематографа фон Триера не хватает подобной перспективы, но и в том, что в ней есть срочная потребность. Чтобы эта точка зрения служила не противовесом для иных мнений, а свидетельством того, что фон Триер и те, кто говорит о творчестве с позиций теологии, выполняют действительно важную работу в рамках христианской традиции. С теологической точки зрения я намерена подтвердить и расширить убеждение Бонни Хониг и Лори Марсо, что фон Триер разрушает усыпляющие бдительность клише, «которые отрицают или затушевывают скрывающееся за ними зло» (Honig and Marso, 2016, с. 3), и что это по аналогии связывает его с пророческими деяниями ветхозаветного пророка Иезекииля.
Борьба с Богом и искусством. влияние Дрейера, Бергмана и ТарковскогоХорошо известно, что для своих фильмов Ларс фон Триер черпал вдохновение из многих источников – Августа Стриндберга, Бертольта Брехта, Фридриха Ницше, Рихарда Вагнера, Пьера Паоло Пазолини, Дэвида Боуи и множества других. Поскольку каждым фильмом он намеренно бросает себе новый вызов, этот список пополняется. Фон Триер объясняет: «Я считаю, что искусство кино должно быть похоже на супермаркет, по которому вы ходите со своей маленькой тележкой и складываете в нее все необходимое» (Schwander, 1983, с. 16). Тем не менее есть три режиссера-автора, которые больше, чем кто-либо, могут считаться постоянным источником вдохновения фон Триера: датчанин Карл Теодор Дрейер (1889–1968), швед Ингмар Бергман (1918–2007) и русский Андрей Тарковский (1932–1986). Каждый из них обладает особой духовной значимостью, порожденной христианской традицией: Карл Теодор Дрейер, чьи произведения исследуют напряженные отношения между добром и злом, верой, религией и Богом; Ингмар Бергман, чьи фильмы пронизывает его борьба с Богом; и Андрей Тарковский, кинокартины которого, несмотря на советские ограничения, показывают Божью любовь среди человеческих тягот.
Хотя фон Триер упоминает о большом влиянии каждого из них и их великого искусства на свое творчество, он не указывает конкретную связь. Однако каждый из этих источников вдохновения несет в себе духовный, теологический вес. Можно сказать, что перспектива их фильмов – ориентация постановки, композиции, изображения и звука – основана на духовной необходимости. Каждый из этих кинематографистов, включая Ларса фон Триера, строил свое художественное произведение вокруг присутствия Бога, вопросов о Боге, мире, который игнорирует Бога, и присутствия зла, передавая это ощущение духовной реальности на экране. Слово «трансцендентность» в общепринятом понимании здесь не годится, поскольку оно подразумевает запредельное, иное царство священного. Хотя в некоторых фильмах это просвечивает [например, в таких картинах, как «Андрей Рублев» (1966), «Зеркало» (1975), «Сталкер» (1979), «Ностальгия» (1983) Тарковского; «Страсти Жанны д’Арк» (1928), «Слово» (1955) Дрейера; и «Рассекая волны» (1996) фон Триера]. Некоторые также демонстрируют имманентное, невидимое, не от мира сего ощущение присутствия Божественного: подобно свету Тарковского, отражающемуся в грязных лужах, ветру на лугу, левитирующим женщинам или колышущейся траве Дрейера в «Слове», а в случае фон Триера – в моменте, когда Бесс благодарит Бога за секс, или в ее лице, когда она ощущает присутствие Бога в ветре на катере, который несет ее навстречу смерти. Но некоторые фильмы изображают и невидимое царство нечестивого, зла, детрансцендентности: «Страницы из книги Сатаны» (1920), «Вампир: Сон Алена Грея» (1932), «День гнева» (1943) Дрейера; «Седьмая печать» (1957), «Час волка» (1968) Бергмана; «Королевство» (1994, 1997), «Антихрист» (2009) и «Дом, который построил Джек» (2018).
Подобный диапазон трансцендентности, имманентности и детрансцендентности в фильмографиях Дрейера, Тарковского, Бергмана и фон Триера иллюстрирует недостатки подхода Пола Шредера[16], описанного им в труде «Трансцендентальный стиль в кино: Одзу, Брессон, Дрейер».
По сути, трансцендентальный стиль Шредера – это духовная разгрузка движимого эмоциями естественного мира, который Шредер описывает как «изобилие», в постепенном движении к «аскезе» духовного стазиса воскрешения, вне зависимости от того, наступит смерть [как в «Дневнике сельского священника» (1951) Робера Брессона] или нет [как в его же «Карманнике» (1959) или «Вкусе сайры» (1962) Ясудзиро Одзу].
«Повседневность» первого этапа отражает бесплодное, невыразительное существование, в то время как второй этап, «разлад», представлен приливом человеческих эмоций, настолько захватывающих, что ничто не способно их сдержать. Это разрыв, который в момент решающего действия прорывается наружу, вызывая у зрителя то, что Шредер называет «духовной шизофренией – острым ощущением двух противоположных миров» (Schrader, 1988, с. 43). Естественный мир эмоций сталкивается лицом к лицу с умиротворенной вселенной за его пределами: «стазисом». Хотя повседневность и разлад основаны на чувственном опыте, третий этап (стазис) – формален, объединяя эмоции и чувственный опыт в широкую форму, которая выражает более глубокое, чем она сама, вечное, трансцендентное, как считает Шредер, «единение всех вещей» (Schrader, 1988, с. 51).
На мой взгляд, выражение трансцендентности кинематографа через стиль Шредера в итоге оказывается не таким уж и универсальным, а скорее, суженным подходом к мировым интеллектуальным традициям, источником которых являются кальвинизм (Шредер), католицизм с примесью янсенизма[17] (Брессон) и дзен-буддизм (Одзу). Стазис, заключительный этап подхода Шредера, где человек попадает в «спокойную область, не затронутую капризами эмоций или личности» – это ограниченная модель, не способная охватить разнообразие культурных перспектив и переживаний трансцендентного. Теологи кино и эстетики Терри Линдвалл, Арти Терри и Уолли О. Уильямс отражают опасения Михаила Бахтина[18] в своем анализе «Долгого пути домой», утверждая, что трансцендентность достигается не путем аскезы, а путем изобилия, выражаемом через тело как общинная сущность (Lindvall, Terry and Williams, 1996). Отрицая трансцендентное, выраженное только как «инаковость», Джо Кикасола утверждает, что способность Бога прикоснуться к людям и их присутствие в творении являются основополагающими для теологии:
Великий парадокс Божественного заключается в Трансцендентном как Источнике и Опоре имманентного. Божественная трансцендентность и имманентность не могут быть полностью отделены друг от друга. Многие теологии… построены на этом парадоксе Трансцендентного/Имманентного, формируя парадигму для понимания проявлений трансцендентного в искусстве.
(Kickasola, 2004, с. 59)Помимо внутренней, неприкрытой потребности говорить о вопросах и взаимосвязи между духовной реальностью и борьбой за человеческое существование, глубочайшей точкой соприкосновения между Дрейером, Бергманом и Тарковским, и являющейся также центральной для фон Триера, становится создание кинематографа, в котором форма и стиль превалируют над содержанием. Для них форма и стиль и есть выражение содержания. В отличие от традиционного повествования, где форма и стиль выступают в качестве вспомогательных средств, их кинематографический сюжет рассказывается в первую очередь с помощью формы и стиля, а повествование играет вспомогательную роль. Намеренные пробелы в повествовании вынуждают зрителей заполнять их визуальными и звуковыми средствами, а концовка не приводит сюжет к развязке.
Фон Триер не стесняется оммажей, и его фильмы демонстрируют интертекстуальность, можно даже сказать, зависимость от богатств формы и стиля Бергмана, Дрейера и Тарковского. Каждый фильм, снятый фон Триером, начинается как вызов самому себе: создать произведение в определенных, ранее не опробованных рамках. Он следует правилу «производить, а не воспроизводить», поэтому возможности черпать новое из сокровищницы наследия этих трех мастеров кажутся безграничными. И в данной работе невозможно оставить их без отдельного внимания, так как они образуют фундамент кинематографа фон Триера.
Субъективистский стиль Ингмара Бергмана изображает внутреннюю жизнь с помощью монтажа, ракурсов, детальных планов и перекрестных наплывов, символизируя ими переходы психических состояний (Scott, 1965, с. 264). «Антихрист» также использует все эти элементы, в частности, для изображения внутренней жизни героини Шарлотты Генсбур. Бергман выводит персонажей за пределы исторически сложившейся ситуации, чтобы подчеркнуть универсальные аспекты тревоги, разочарования и неуверенности – и это же мы видим в универсализированных главных героях («Он» и «Она») «Антихриста», размытых лицах всех остальных персонажей и вездесущем штате «Вашингтон, США», используемом во многих фильмах фон Триера. В «Девичьем источнике» Бергмана герои скатываются из цивилизованности к язычеству и варварству (Scott, 1965, с. 269), что затем воспроизводится в «Антихристе» и противопоставляется в «Доме, который построил Джек». Символ чумы в «Седьмой печати» (Scott, 1965, с. 267) также используется как символ в «Эпидемии». Вода у Бергмана является посредником между феноменальным и психическим мирами (Scott, 1965, с. 264), а у фон Триера – между физическим и духовным, что видно из интерлюдий между главами в «Рассекая волны» и перехода через ручей в Эдем в «Антихристе». Фон Триер часто называет Бергмана своим «отцом» в кино, например, совсем недавно в документальном фильме «Вторжение к Бергману» (2013), также заявив, что он смотрел все, что когда-либо снимал Бергман, включая рекламные ролики. Таким образом, упомянутое здесь интертекстуальное влияние на фильмы фон Триера может быть лишь верхушкой айсберга.
Пожалуй, самым почитаемым режиссером, оказавшим влияние на фон Триера, является его соотечественник Карл Теодор Дрейер. Фон Триер снял для телевидения фильм «Медея» по его сценарию и даже использовал в нем несколько актеров Дрейера. И хотя в фильмографии Дрейера не так много работ, он оказал значительное влияние на кинематограф в целом. Дрейер стремился к психическому реализму, «чтобы запечатлеть эфемерное под поверхностной реальностью», избавляясь почти от всего остального, создавая минималистскую, абстрактную эстетику. Фильм «Страсти Жанны д’Арк» был снят безжалостным крупным планом, чтобы показать глубину страданий святой (Barrett, 2018). В «Танцующей в темноте» реализована схожая эстетическая концепция, хоть и посредством иной техники. Лицо Сельмы находится так близко к ручной камере, что расплывается, как будто объектив пытается заглянуть ей под кожу и в душу. Дрейер непреклонно нарушал правила кинематографа. Нетерпимость была общей темой его фильмов, он выражал ее, делая акцент на характере, а не на повествовании, и перемещаясь от внешнего облика к внутренней драме человеческой души и духовной жизни, как в «Страстях Жанны д’Арк». Эти темы сильно перекликаются с творчеством фон Триера (Barrett, 2018). Кадры и монтажные склейки, как видно из «Страстей», намеренно разрушают ожидания зрителя, чтобы сделать фильмы Дрейера сложными для просмотра, и вместо установочных общих планов он подчеркивает противоречие восприятия и разрывы пространства и времени с помощью широкого использования крупных планов, нетипичных ракурсов съемки и фрейминга[19]. Его фигуры напоминают о страстях Христовых, а символы креста видны повсюду, от оконных стекол до теней (на которые наступает судья) (Wright, 2007, с. 42–43). Он достигает той же цели, используя совершенно иную технику в «Слове», драме, снятой длинными планами в одной комнате и с применением его собственного творения – подвижных дуговых панорамных планов. Каждый фильм Дрейера задумывался им как новый набор вызовов, и все они отличаются друг от друга эстетикой – личное правило, которое фон Триер взял на вооружение и для своего творчества, заботясь о визуальной неповторимости каждого фильма. В «Страстях Жанны д’Арк» и «Гертруде» Дрейер использовал гипноз для достижения желаемого эффекта, который и фон Триер включил в трилогию «Европа». Фон Триер также воспользовался услугами давнего оператора Дрейера Хеннинга Бендтсена для съемок «Эпидемии» и «Европы». Бендтсен подарил фон Триеру смокинг Дрейера, который тот затем надевал в Каннах и на съемку вступительного комментария в духе Хичкока перед «Королевством». Бендтсену, мягкому, религиозному человеку с большим чувством собственного достоинства, нравилось работать с обоими режиссерами. Он особенно восхищался мастерством фон Триера на съемочной площадке, тем, как точно тот знал, чего хочет, и его подробными рисунками раскадровки (CloserTV, 2019), помогавшими Бендтсену в работе. Присутствие Карла Теодора Дрейера неумолимо просвечивает в элементах стиля, формы и философии кинопроизводства фон Триера.