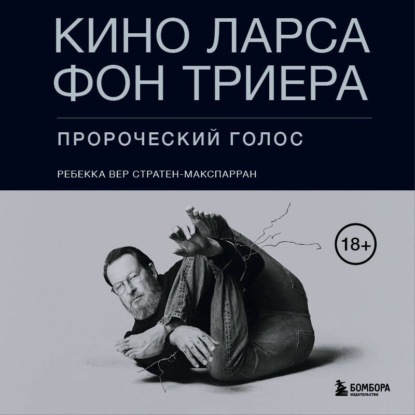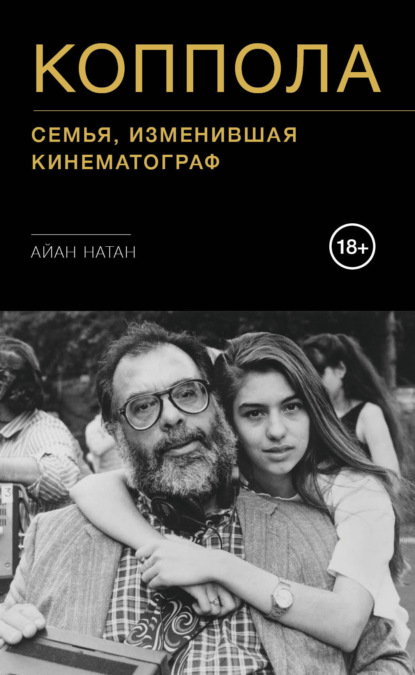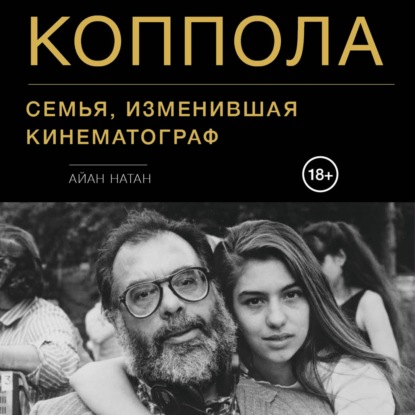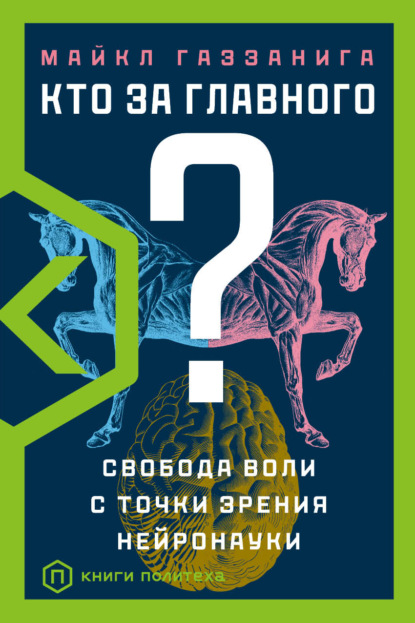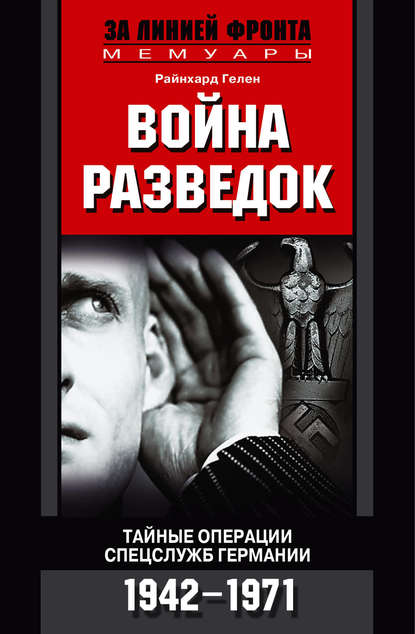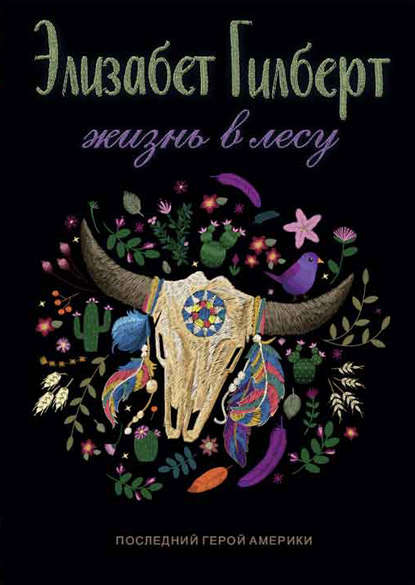Кино Ларса фон Триера. Пророческий голос
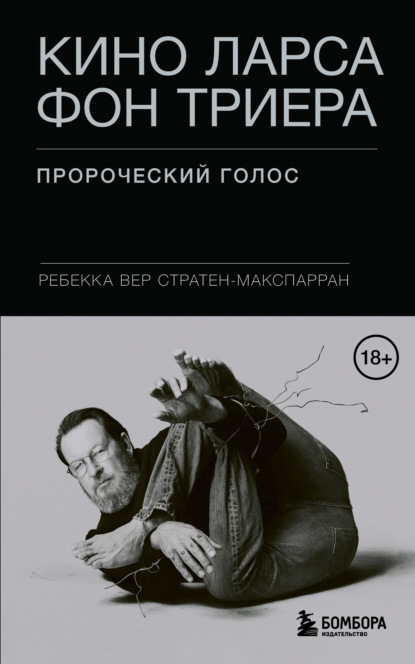
- -
- 100%
- +
О весомом влиянии Андрея Тарковского на фильмы фон Триера широко известно. Однако здесь мы это опустим, так как часть главы 2 посвящена творчеству Тарковского как художника-пророка, а глава 5, где я подробно разбираю «Антихриста» (который фон Триер посвятил Тарковскому), детально описывает его влияние на этот фильм. Тем не менее каждый из этих мощных источников вдохновения фон Триера имеет духовный, теологический вес. Можно сказать, что перспектива их фильмов, определяющая мизансцену, композицию, изображение и звук, проистекает из духовной необходимости.
Феноменология, Рикер, Левинас и ИезекиильОсновные подходы к теории кино во второй половине двадцатого века отвергают редукционистский взгляд на объективные факты и верифицируемую достоверность, сосредотачиваясь на взаимоотношениях человека с миром, которые придают значение этим фактам (Kearney, 1995, с. 1). Феноменология, в частности, подчеркивает интенциональное отношение сознания к смыслу. Разработанная Эдмундом Гуссерлем (1859–1938) феноменология – это философия перцептивного опыта, относящая происхождение идей к пережитому опыту (Erlebnisse) «самих вещей», то есть она исследует интуитивные свидетельства сознания и феномены непосредственного опыта, чтобы объяснить наше восприятие (перцепцию) мира. Субъект и объект не разделены, но определяются их интенциональным отношением к сознанию, ибо «сознание – это осознание чего-либо» (Husserl, 2013, с. 13). Мерло-Понти[20] вдохновлялся поздним Гуссерлем (уже после завершения периода трансцендентального идеализма ego), который утверждал:
что «живое тело» (Lieb) является «средством всякого восприятия; оно является органом восприятия и обязательно вовлечено во всякое восприятие» (Ideen, II, с. 18, 61; Hua 4:56). Abshattungen перцептивного опыта частично являются продуктом самого объекта, а частично – продуктом положения, двигательных способностей и т. д. моего тела.
(Moran, 2013, с. 212)Своим влиянием на искусство и кино феноменология обязана работе «Феноменология восприятия» (1945) Мориса Мерло-Понти, в которой он развил взгляды Гуссерля на феноменологию тела. Он считал, что кино как феноменологическое искусство не имеет себе равных (Мерло-Понти, 1964) и обладает способностью описывать восприятие зрителя так, как если бы последний находился в мире фильма, потому что «этот мир всегда “уже существует” еще до того, как начинается рефлексия» (Merleau-Ponty, 2002, с. 18). Используемые им (а до этого Гуссерлем) термины «воплощение», «интенциональность» и «погруженность в мир» легли в основу литературы по феноменологии кино (Baracco, 2017, с. 39). Мерло-Понти понимает восприятие (перцепцию) как пространственную и временную целостность между воспринимающим и воспринимаемым, объясняя этот термин, как трость слепого, открывающую нам инаковость. Он утверждает, что «искать суть восприятия – значит заявлять, что восприятие не считается истиной само по себе, а определяется как доступ к истине» (Merleau-Ponty, 2002, с. 18). Не мысль, а именно тело, соединяющее внутреннее и внешнее, проводит нас во «внутреннем общении с миром. Во время просмотра кино технологическое посредничество становится невидимым, так что тело и мир фильма связываются напрямую» (Baracco, 2017, с. 51). Феноменологи кино Вивиан Собчак, Дженнифер Баркер и Лора Маркс описывают эту взаимосвязь как физическую, тактильную или осязательно-визуальную. Собчак описывает тактильные ощущения тела при просмотре фильма:
В кинотеатре (как и везде) мое живое тело находится в готовности, потенциально способное как воспринимать, так и создавать смыслы. Сосредоточенная на экране, моя «схема тела», или интенциональное поведение, обретает форму подражательного сочувствия к… тому, что я вижу и слышу. Если я увлечена тем, что вижу, моя интенциональность устремляется к миру на экране, проявляясь не только в моем осознанном внимании, но и в моем телесном напряжении. Иногда вопиющие, иногда незаметные, но всегда динамичные инвестиции… моего материального бытия… Поскольку я не могу в буквальном смысле потрогать, понюхать или попробовать на вкус конкретную фигуру на экране, которая возбуждает во мне чувственное желание, интенциональная траектория моего тела, ищущего подходящий объект для удовлетворения этого чувственного желания, изменяет направление и локализует свою отчасти разочарованную чувственную хватку на… моем собственном субъективно ощущаемом живом теле. Таким образом, «оторвавшись» от экрана – и без всякой рефлексивной мысли – я рефлекторно обращаюсь к собственной плотской, чувственной и чувствующей сущности, чтобы прикоснуться к своему прикосновению, услышать запах своего обоняния, попробовать на вкус себя вкушающего и в целом почувствовать собственную чувственность.
(Sobchack, 2004, с. 76–77)Феноменология кино точно описывает философию взаимоотношений между зрителем и фильмом и потенциал фильма, воплощенный в прекогнитивной силе воздействия, что особенно важно для понимания глубокого воздействия фильмов фон Триера на зрителя. Я утверждаю, что между пророком или носителем пророческого голоса и его аудиторией существует схожая связь, в которой истина резонирует с той же прекогнитивной силой воздействия. Как и у Мерло-Понти, восприятие определяется как доступ к истине. Данная работа сочетает в себе изучение Библии с широким феноменологическим подходом к эстетике. Это означает, что мой подход характеризуют определенные общие допущения, свойственные феноменологии: в нем подчеркивается постижение через соприкосновение, необходимость непосредственной связи с осмысляемым для производства смыслов и общее понимание того, что смыслы могут быть переданы не только устным и письменным словом, но и, как в нашем случае, с помощью невербальных символических действий («зримых пророчеств»), театрализованных выступлений и эстетических средств, таких как искусство и кино. Хотя моя аргументация выстроена с позиций феноменологии, она скорее подразумевается, чем артикулируется, чтобы не отнимать место у исследования пророческой природы фильмов фон Триера.
Тем не менее феноменологическая герменевтика французского философа Поля Рикера (1913–2005) предлагает всеобъемлющую основу для пророческого голоса и зла, порождающих духовный конфликт в фильмах. Это крайне важно, поскольку я утверждаю, что духовный конфликт является механизмом, который создает и раскрывает крайние проявления эксцесса в фильмах фон Триера. Сама по себе феноменология игнорирует тот факт, что на восприятие и воспринимающего также влияет наше активное участие в историческом, культурном и языковом мире, уже наполненном сложившимися смыслами и интерпретациями. Объединяя феноменологию и герменевтику, Рикер показывает, что мы не можем начать с осознания чистой рефлексии. Долгий путь к рефлексивному сознанию лежит через исторические и культурные знаки, лежащие за пределами непосредственного сознания. Самость может быть истолкована только путем интерпретации знаков внешнего мира, поскольку человек – воплощенное существо, которое помещается в язык символов до того, как познает сознание. Он утверждает примат символа над сознанием, где значение возникает как косвенное, опосредованное, загадочное и многообразное (Kearney, 1995, с. 92), и утверждает, что «символ приглашает: не я устанавливаю смысл, символ дает его мне, но то, что он дает, необходимо обдумывать» (Kearney, 1995, с. 93). Ключевой феноменологический вопрос, касающийся бытия, заключается в смысле этого бытия, поиске смысла в символах, вытекающем из их исторической и культурной идентичности, с которыми сталкивается сознание. Таким образом, сознание привязывается к:
…отношению принадлежности к прошлым отложениям и будущим проектам смысла, «герменевтическому кругу», где каждая субъективность обнаруживает себя уже включенной в интерсубъективный мир, символы которого охватывают и ускользают со всех сторон. Следовательно, недостаточно просто описать смысл таким, каким он кажется, когда проявляет себя, – мы также обязаны интерпретировать его в ситуации, когда он скрывает себя. И это приводит к… феноменологической герменевтике интерпретации, которая признает, что смысл сам по себе никогда не стоит для меня на первом месте.
(Kearney, 1995, с. 94)И тем не менее…
…феноменология остается непревзойденной предпосылкой герменевтики. И, с другой стороны, феноменология не может осуществить свою программу конституирования, не конституируясь в интерпретации опыта эго.
(Ricoeur, 1981, с. 114)Устоявшийся феноменологический подход к кино сложился благодаря работам Вивиан Собчак (Sobchack, 1992) и тактильной феноменологии Дженнифер Баркер (Barker, 2009), работе Сары Ахмед об аффекте и эмоциях (Ahmed, 2014), анализу фильмов Кесьлёвского[21] Джо Кикасолой (Kickasola, 2004), «Фильмософией» Дэниела Фрэмптона (Frampton, 2006) и прочих. Все большее число философов кино признают, что одной феноменологии кино недостаточно, поэтому они смешивают ее с феноменологической герменевтикой Рикера. Действительно, приведенная выше цитата Собчак вытекает из обсуждения «Живой метафоры» Рикера (Sobchack, с. 73–84). Дадли Эндрю использует герменевтику Рикера, чтобы продемонстрировать, что фильмы являются исторической силой (Andrew, 1986), а теологический подход Дитте Фридман к методу Рикера объединяет его толкование понимания, символа, метафоры, повествования и воображения, чтобы продемонстрировать, как фильм передает информацию и конструирует смыслы (Friedman, 2010). Однако она упускает исследование Рикером мифа, которое играет важную роль в моей работе. Недавняя книга Альфредо Баракко «Герменевтика мира кино: Рикеровский метод интерпретации фильмов» содержит обзор киноведов, использующих герменевтику Рикера, включая Ноэля Кинга, Генри Бэкона и Адельмо Данжа (Baracco, 2017, с. 91–95). Подробно описывая взаимосвязь между феноменологией кино и киногерменевтикой, Баракко стремится разработать рикеровскую структуру для интерпретации/критики фильма, используя движение Рикера от наивного понимания к критической интерпретации и апроприации. Хотя такой подход эффективен при анализе фильмов, он тяготеет к интерпретации содержания, а не формы. В нем опущена работа Рикера об отношении мифа к символу и метафоре, и вместо этого представлено усеченное объяснение его концепции символа.
Данный труд в большей степени теологически сосредоточен на утверждении Рикера о высшей ценности выражения посредством мифопоэтических форм (например, кино), мифа, символа и зла, и в их центре внимания – забота о человеке в мире, для которого характерно как присутствие, так и отсутствие священного. На мой взгляд, это лежит в основе пророческого голоса фильмов. Смысл человеческого бытия, по Рикеру, погружен в миры историй и символов, которые противопоставляются знаниям, полученным от науки. Быть человеком означает быть отчужденным от самого себя, ибо все человеческие существа хотя и созданы для целостности, уже находятся в плену у «противника», более могущественного и превосходящего их самих. Он считает, что это наиболее ясно символизировано в мифе о грехопадении Адама. Превосходство мифа над философией проявляется в способности религиозных историй происхождения раскрывать «структурное несоответствие в человеческих существах между их раздробленной природой и их судьбами как целостных личностей». Такое несоответствие можно представить себе только косвенно, основываясь на мифических образах. Символы, имеющие решающее значение для такого взгляда, определяются Рикером как:
…многозначное выражение, характеризующееся скрытой логикой двойной отсылки. Символы подобны знакам, так как они подразумевают нечто за пределами самих себя. Но, в то время как знак обладает относительно очевидным и общепринятым набором обозначений, значения символа многозначны, их трудно различить, и их глубина практически неисчерпаема.
(Ricoeur and Wallace, 1995, с. 5)Герменевтика откровения Рикера начинается с библейского откровения ветхозаветных пророков и пророческого дискурса. Но этих людей больше нет, и все, что осталось, – это текст Священного Писания. Рикер открывает нам мир Писания подобно тому, как это делает кинематограф. Разворачивающийся перед зрителем текст вводит его в свой мир. Его символы зла придают «палитре зла» фон Триера такой язык, который больше нигде не выражен. Таким образом, именно герменевтика откровения и символы зла Рикера обрамляют исследование аналогической связи между фильмами и пророчеством Иезекииля.
Теологически обоснованный подход к установлению (и исследованию) связи между фильмами Ларса фон Триера и пророчеством ветхозаветного пророка Иезекииля полагается на определенного рода пневматологию[22]: взгляд на результаты целенаправленной и продолжающейся работы Святого Духа на протяжении всей истории. В книге «Обретенная теология: История, воображение и Святой Дух» Бен Куаш выбирает центром своей теологической эстетики деяния Святого Духа сквозь века. Его труд особо ценен для нас, так как в основном говорит об искусстве.
Наконец, решающее значение имеет мой основной источник по Иезекиилю, Пол Джойс и его комментарии к Книге Пророка Иезекииля и другие работы о пророке. Джойс не только сам является ведущим экспертом по Иезекиилю, но и продвигает исследования Книги Пророка Иезекииля в целом, помогая новым подходам в книгах под своей редакцией. Однако отличительной чертой является фокус Джойса на исследованиях рецепции, основанных на работах Ханса-Георга Гадамера и Ханса Роберта Яусса (Joyce, 2017, с. 459). Джойс сочетает это с историко-критической наукой и другими формами научной деятельности, чтобы направлять исследования Книги Пророка Иезекииля в новые области. В главе 1 я объясню, почему внимание, которое выделяет Иезекииля среди всех ветхозаветных пророков в данной работе, уместно и ценно с точки зрения интерпретации.
Эммануэль Левинас (глава 4 «Эстетика изображения, звука и стиля» и глава 5 «Антихрист») вносит небольшой, но важный вклад в данное исследование. Его понимание инаковости и заботы о Другом заключает в себе то, что я считаю перспективой фильмов фон Триера. Хотя это, возможно, нелегко увидеть сразу, я считаю, что перспектива содержится в каждом фильме фон Триера, поэтому я буду ссылаться на Левинаса на протяжении всей книги. Заключительная глава небольшой книги Мишель Аарон о зрительской этике, рассмотренная в главе 4 в разделе «Зрительская этика», завершается анализом этики фон Триера и Левинаса. Левинаса и Рикера объединяет не только то, что их философии основаны на фундаменте феноменологии, – они также были друзьями и коллегами. Хотя, как говорит Рикер, они исходят из противоположных полюсов эго Гуссерля (Рикер – из ego, а Левинас – из alter), их образ мысли имеет много общего (Дуту и др.). В «Этике и бесконечном» Левинас настаивает на центральной роли свидетельства и свидетеля – что является критическим элементом взгляда Рикера на откровение – как определяющей «профетизм[23]», который «на самом деле является фундаментальным способом откровения» (Levinas and Nemo, 1985, с. 113). Левинас утверждает:
Для меня Священные Писания отражают все, что они пробуждали в своих читателях на протяжении веков, и все, чем они стали в результате их толкований и передачи. Они содержат в себе важность всех духовных переломов, в результате которых ставится под сомнение чистая сознательность здесь-бытия. В этом и заключается их святость, вне всякого сакраментального значения.
(Levinas and Nemo, 1985, с. 118)В моем понимании, слова Левинаса, что Священные Писания «содержат в себе важность всех духовных переломов», отражают взгляд Бена Куаша на намеренные шероховатости и разрывы в Священном Писании, благодаря которым Святой Дух находит нас в мире на протяжении всех времен. Теоретики в этой книге сходятся по множеству вопросов, но самое главное, что, поскольку мир текста отчетливо раскрывается перед каждым из них (Рикер), они объединены пребыванием под бесконечным покровительственным небом Священного Писания.
Различия в терминологии могут сбивать с толку при проведении междисциплинарных исследований (в данном случае – на стыке кино и теологии). Чтобы внести ясность, поясню, что в данной работе духовное определяется как:
а) относящееся к [человеческому] духу, состоящее из него или влияющее на него: бестелесное;
б) относящееся к сверхъестественным существам или явлениям.
(Merriam-Webster)Хотя слово «сверхъестественное» обычно используется для описания духовной реальности в киноведении, в теологии оно имеет иные коннотации и может быть проблематичным, поэтому я использую слова «духовный» или «духовная реальность», когда имею в виду область за пределами материальной и научно измеримой Вселенной. Слово «духовный» здесь также описывает отношения между живыми, воплощенными человеческими существами и духовными существами, будь то Бог или демон. Вместо «религии» я использую термин «религиозная традиция», чтобы отличать ее от психологических, политических и социологических перспектив и чисто мифологических традиций.
Я начинаю эту книгу с изложения в первой главе библейского и исторического контекста своего анализа «Контекст: пророки и пророчества, Иезекииль и художник-пророк».
Обсуждая контекст и духовный конфликт ветхозаветных пророков, я выделяю критерии, по которым их можно идентифицировать: для классических пророков в целом и для особого способа пророчествования Иезекииля в частности. Следуя контексту, установленному в главе 1, в главе 2 рассматривается «Художник как пророк: схожие черты Данте, Мильтона, Достоевского, Фланнери О’Коннор и Тарковского». Обе главы, 1-я и 2-я, подготавливают почву для определения пророческого статуса фильмов фон Триера. В целях анализа в главах 3 и 4 я отделяю сюжетные темы фильмов от изображения и звука, сводя их воедино в детальном разборе «Антихриста» в последней главе. Я предполагаю, что аналогическую связь между пророчеством Иезекииля и фильмами фон Триера можно представить в виде бинарной связи (иллюстрация 0.1).

Иллюстрация 0.1. Аналогическая связь между пророчествами и фильмами фон Триера, представленная в виде бинарной связи.
Первая пара бинарной связи, «Пророчество – Повествование» является темой главы 3 «Эстетика пророчества: повествовательные структуры и пророческие темы Иезекииля в фильмах Ларса фон Триера». Я сравниваю и противопоставляю нарративные (повествовательные) структуры и темы пророчества Иезекииля повествованиям фильмов фон Триера. К его творчеству применен подход герменевтики символов зла Рикера, через который можно выразить наш опыт столкновения со злом. Как в главе 3, так и в главе 4, вместо того чтобы анализировать фильмы фон Триера в хронологическом порядке, я группирую их по схожим темам, формам или стилю, чтобы лучше прояснить аналогическую связь между фильмами фон Триера и пророчеством Иезекииля.
В главе 4 «Эстетика изображения, звука и стиля: воплощение пророческого голоса» я рассматриваю вторую часть бинарной связи «Пророческий голос – Стиль».
Невербальные символические действия Иезекииля и его пророческий голос оцениваются через призму стиля, изображения и звука фильмов фон Триера, а также показывают, каким образом фильмы передают смысл невербальными средствами и символами. Теоретической основой главы является герменевтика мифа и символа Рикера.
Глава 5 представляет собой подробный разбор «Антихриста», в котором повествование соединяется со стилем, чтобы продемонстрировать убедительность аргументов из глав 3 и 4. За этим разбором следуют мои выводы относительно аналогической связи – теологического отголоска пророчеств Иезекииля в творчестве Ларса фон Триера.
Ни одна книга до этого не изучала фон Триера с эмпатической теологической точки зрения. Я считаю, что мы должны исследовать и проникать в сложные темы, говорить о них. Если ученые в области этики, психоанализа, политики, литературы и других дисциплин могут писать о фильмах фон Триера с должным уважением к их принципам и художественной ценности, разве не могут ученые христианской традиции также внести собственный вклад?
Надеюсь, данная работа положит начало этому движению.
БиблиографияAaron, Michele. 2007. Spectatorship: The Power of Looking On. London: Wallflower Press.
Ahmed, Sara. 2014. Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Andrew, Dudley. 1986. “Hermeneutics and Cinema: The Issue of History”. Studies in the Literary Imagination; Atlanta, Ga. 19 (1): 21–38.
“’Anti-Prize’ for Lars von Trier’s ‘Misogynist’ Movie”. France 24, May 24, 2009. https://www.france24.com/en/20090524-lars-von-trier-antichrist-misogynist-movie-prize-cannes-film-festival-ecumenical-jury.
Badley, Linda. 2011. Lars von Trier. Urbana: University of Illinois Press.
Bainbridge, Caroline. 2007. The Cinema of Lars von Trier: Authenticity and Artiface. London and New York: Wallflower Press.
____. 2004. “The Trauma Debate: Just Looking? Traumatic Affect Film Form and Spectatorship in the Work of Lars von Trier”. Screen. 45 (4): 391–400.
Baracco, Alberto. 2017. Hermeneutics of the Film World: A Ricœurian Method for Film Interpretation. New York: Springer.
Barker, Jennifer M. 2009. The Tactile Eye: Touch and the Cinematic Experience. Oakland: University of California Press.
Baron-Cohen, Simon. 2011. The Science of Evil: On Empathy and the Origins of Cruelty. New York: Basic Books.
Barrett, Alex. 2018. “Where to Begin with Carl Dreyer”, British Film Institute, June. www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/features/fast-track-fandom-where-begin-carl-dreyer.
Calder, Todd. 2018. “The Concept of Evil”. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, edited by Edward N. Zalta, Fall 2018. Stanford: Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/concept-evil/.
Cavell, Stanley. 2004. “From the World Viewed”. In Film Theory and Criticism: Introductory Readings, edited by Leo Braudy and Marshall Cohen, 344–354. 6th edition. New York: Oxford University Press.
CloserTV. 2019. A behind the Scenes Channel, Lars von Trier & Dreyer’s Cinematographer Henning Bendtsen – an Interview about Europa & Epidemic, www.youtube.com/watch?v=l63-oM3jgZo.
DeWolfe, Stacey. 2009. Sound Affects: Sado-Masochism and Sensation in Lars von Trier’s Breaking the Waves and Dancer in the Dark. Saarbrücken: VDM Verlag.
Duthu, Henri. n.d. “Ricoeur – Lévinas Une Même Interrogation Éthique”, Espacethics: Emmanuel Levinas. http://espacethique.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=128.
Faber, Alyda. 2003. “Redeeming Sexual Violence? A Feminist Reading of Breaking the Waves”. Literature and Theology. 17 (1): 59–75.
Fishbane, Michael. 1984. “Sin and Judgment in the Prophecies of Ezekiel”. Union Seminary Review. 38 (2): 131–150.
Frampton, Daniel. 2006. Filmosophy. London: Wallflower Press.
French, Sarah, and Zoë Shacklock. 2014. “The Affective Sublime in Lars von Trier’s ‘Melancholia’ and Terrence Malick’s ‘The Tree of Life”. New Review of Film and Television Studies. 12 (4): 339–356.
Frey, Mattias. 2016. Extreme Cinema: The Transgressive Rhetoric of Today’s Art Film Culture. New Brunswick: Rutgers University Press.
Friedman, Ditte. 2010. Writing on Film as Art through Ricoeur’s Hermeneutics”. Journal of Writing in Creative Practice. Accessed October 3, 2019: www.academia.edu/2082404/Friedman._2010._Writing_on_Film_as_Art_through_Ricoeurs_Hermeneutics.
Galt, Rosalind. 2016. “The Suffering Spectator? Perversion and Complicity in Antichrist and Nymphomaniac”. In Politics, Theory, and Film: Critical Encounters with Lars von Trier, edited by Bonnie Honig and Lori J. Marso, 71–96. Oxford: Oxford University Press.
Heath, Stephen. 1998. “God, Faith, and Film: Breaking the Waves”. Literature and Theology. 12 (1): 93–107.
Honig, Bonnie, and Lori J. Marso. 2016. Politics, Theory, and Film: Critical Encounters with Lars von Trier. Oxford: Oxford University Press.
Husserl, Edmund. 2013. The Paris Lectures. New York: Springer.
Joyce, Paul M. 2017. “Reception and Interpretation in Ezekiel”. In Ezekiel: Current Debates and Future Directions, William A. Tooman and Penelope Barter eds. Tübingen: Mohr Siebeck. (Forschungen zum Alten Testament 112.)
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.