Утерянный мир. Как Запад не сумел предотвратить Вторую холодную войну
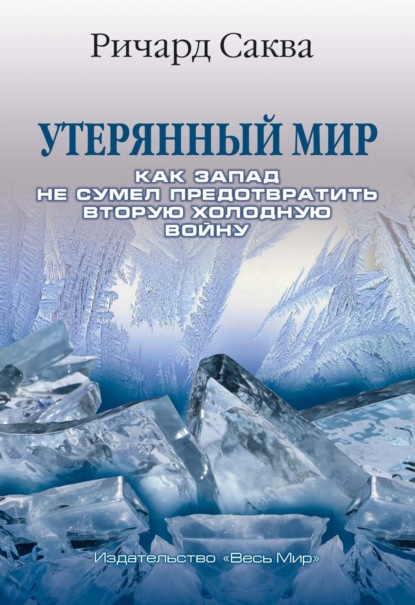
- -
- 100%
- +
Международная система Устава ООН родилась в мрачные дни Второй мировой войны. Атлантическая хартия, составленная Уинстоном Черчиллем и Франклином Д. Рузвельтом в августе 1941 г. на борту британского линкора «Принц Уэльский» у берегов Ньюфаундленда, остается краеугольным камнем послевоенной международной системы. Ее восемь «общих принципов» полностью соответствовали либеральному универсализму, провозглашенному президентом США Вудро Вильсоном (1913–1921), вдохновителем Лиги Наций, поэтому послевоенный порядок часто называют «вильсоновским». Это стало выражением радикального видения либерального интернационализма, которое должно было «преобразовать старую глобальную систему, основанную на балансе сил, сферах влияния, военном соперничестве и союзах, в единый либеральный международный порядок, опирающийся на национальные государства и верховенстве закона»[17]. Это было далеко идущее видение, и некоторые из идей не были бы одобрены Великобританией, величайшей имперской державой того времени, если бы не настоятельная необходимость вовлечь США в борьбу против нацистской Германии. В отчаянных обстоятельствах, когда Британия в одиночку противостояла гитлеровским армиям, Черчилль был вынужден положить защиту империи на алтарь победы над нацистской Германией. Советский Союз все еще не оправился от разрушительного немецкого вторжения в рамках операции «Барбаросса» 22 июня, поэтому Черчилль был готов пойти на компромиссы, которые угрожали целостности империи. В первой статье Хартии недвусмысленно заявлялось, что ни одно из государств не стремится к территориальному расширению; во второй выражалось намерение не соглашаться ни на какие территориальные изменения, «не находящиеся в согласии со свободно выраженным желанием заинтересованных народов»; третья обязывала уважать «право всех народов избирать себе форму правления, при которой они хотят жить», в то время как в четвертой говорилось о том, что все государства имеют «доступ на равных основаниях к торговле и к мировым сырьевым источникам, необходимым для экономического процветания этих стран», что положило бы конец британским имперским предпочтениям и открыло империю для американского капитализма. Для Черчилля ключевым моментом был шестой абзац: «окончательное уничтожение нацистской тирании»[18].
Нападение Японии на американский флот в Перл-Харборе 7 декабря 1941 г. было еще впереди. США не были воюющей страной, поэтому не могло быть предметного обсуждения военного сотрудничества. Поэтому основное внимание было уделено общим принципам и нормативным основам будущего мирного устройства. Месяцем позже СССР и девять правительств оккупированной Европы подписали Атлантическую хартию. Сочетание безопасности и ценностей (силы и норм) Хартии позже легло в основу Устава ООН и международной системы, созданной после войны. Эти принципы были включены в Декларацию Объединенных Наций от 1 января 1942 г., в которой 26 стран, воюющих с державами Оси, включая СССР и Китай, обязались соблюдать принципы Атлантической хартии и сражаться ради общей победы. Таким образом, эти государства стали членами-основателями того, что впоследствии стало организацией с таким названием.
При поддержке союзных держав Советский Союз переломил ход войны. Вопрос о послевоенном мирном устройстве становился все более актуальным. На ряде конференций – в Касабланке, Тегеране, Москве, Ялте и Потсдаме – была предпринята попытка, как пишет Генри Киссинджер в своем исследовании мирового порядка, «определить концепцию мира»[19]. На этих конференциях была заложена фундаментальная архитектура послевоенной международной системы. Союзники работали над установлением «нового мирового порядка», в котором Советский Союз принимал активное участие. На конференциях в Касабланке в январе и Тегеране в ноябре 1943 г. были определены контуры новой Организации Объединенных Наций. На конференции в Думбартон-Оксе, проходившей в Вашингтоне с августа по октябрь 1944 г., собрались представители «Большой четверки» – США, Великобритании, СССР и Китая, а также некоторых других государств, чтобы сформулировать предложения по созданию «общей международной организации», и они согласовали цели, структуру и функционирование нового органа. Основные положения ООН были приняты на Ялтинской конференции советским лидером Иосифом Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем в феврале 1945 г.
Ялтинская встреча вызывает особенно много споров. Фактически достигнутые договоренности были разумными, особенно в отношении ООН и обещаний провести свободные выборы в Польше и других восточноевропейских государствах, но не существовало механизма, который обеспечил бы выполнение Сталиным своих обещаний. Неудивительно, что Ялта осуждается в регионе и символизирует подчинение малых стран великим державам, и особенно Центральной Европы советским интересам в области безопасности. С точки зрения классической политики «концерта» великие державы провозгласили суверенный интернационализм основой нового порядка, который сохраняется (с изменениями) и по сей день. Принцип суверенного интернационализма выходит за рамки классической безоговорочной защиты национальных интересов, описываемой классическими реалистами, и он сочетает государственную автономию с многосторонностью, приверженностью международным договорам и процессам. Мир уже давно двигался в этом направлении, предпринимая различные попытки регулировать ведение войны, разве что только не запретить ее полностью как инструмент политики начиная с конца XIX в. После разрушительных последствий Второй мировой войны такие усилия активизировались. Было достигнуто новое равновесие между реалистичным соблюдением национальных интересов и государственного суверенитета и сотрудничеством в рамках многосторонних институтов.
Принятие Устава ООН на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 г. подготовило почву для официального создания организации (после ратификации национальными парламентами) в октябре того же года. Пяти великим державам того времени (Франция была удостоена почетного членства) была предоставлена привилегия применять право вето в Совете Безопасности ООН (СБ ООН), воспроизводя структуру Венского концерта, призванного поддерживать мир в постнаполеоновской Европе. Основополагающим принципом был суверенный интернационализм, но нормативный импульс, возникший после массовых жестокостей войны, был глубоким. В Уставе семь раз упоминаются права человека, но не уточняется, какие именно. Этому была посвящена Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ), принятая Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1948 г. Конвенция о геноциде, принятая Генеральной Ассамблеей в том же месяце, запрещает попытки в военное или мирное время «уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую» и определяет ряд карательных мер[20]. Конвенция ООН о беженцах 1951 года устанавливает правила в этой области. Эти основополагающие документы дополняются более поздними протоколами, включая Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП), которые были приняты в 1966 г. и вступили в силу в 1976 г. Они подкреплены региональными соглашениями, в частности Европейской конвенцией о правах человека, принятой в 1950 г.[21] Система Устава ООН и связанные с ней конвенции далеки от того, чтобы стать мировым правительством. Великие державы продолжают конкурировать на международной арене, которую реалисты называют «анархической», т. е. без доминирующей власти[22]. Международная политика сохраняет свой конкурентный характер, но легитимность действий игроков определяется соответствием стандартам, установленным системой Устава ООН. Власть по-прежнему перекрывает нормы, но нормы в конечном счете действуют как ограничение.
Первая холодная войнаООН развивалась в тени углубляющегося конфликта между бывшими союзниками. Холодная война была традиционным конфликтом между великими державами, связанным с борьбой соперничающих идеологий. По словам Джона Льюиса Гэддиса, это было «неизбежное состязание, призванное раз и навсегда решить фундаментальные вопросы»[23]. Одержав победу в 1945 г., Сталин хотел «обеспечить безопасность для себя, своего режима, своей страны и своей идеологии, и именно в таком порядке»[24]. Гэддис утверждает, что перспективы сохранения военного союза были невелики, поскольку советские цели фундаментально расходились с целями Запада[25]. Другие утверждают, что холодная война началась из-за неправильного понимания советских намерений и что в конечном счете Сталин был готов согласиться на продолжение сотрудничества с зарождающимся политическим Западом, до тех пор пока будут соблюдаться советские интересы в области безопасности[26]. Во время гражданской войны в Греции СССР выполнил свою часть сделки, согласно которой страна попала в сферу интересов Запада[27]. Все это было омрачено наступлением ядерного века. 6 августа 1945 г. США применили ядерное оружие против Хиросимы, а три дня спустя – против Нагасаки. Советская угроза стала более ощутимой, когда СССР испытал свою первую атомную бомбу в августе 1949 г. и свое первое термоядерное устройство (водородную бомбу) в ноябре 1955 г. Изначальные попытки передать весь военный и гражданский ядерный цикл в ведение международного агентства – Комиссии ООН по атомной энергии (план Баруха 1946 г.) – ни к чему не привели. Все ускоряющаяся гонка ядерных вооружений возвестила о наступлении эры Взаимного гарантированного уничтожения (Mutual assured destruction, MAD) – безумной доктрины, лежащей в основе сдерживания.
В ответ на советскую угрозу США разработали три стратегии. Первая заключалась в том, чтобы опираться на ООН и преобладание союзников в Совете Безопасности для сдерживания Москвы. Еще до вступления США во Вторую мировую войну, американские элиты думали о том, как страна сможет институционализировать свою возросшую мощь и интересы. Был сформулирован образ нового типа международного сообщества, осуждавший использование изоляционизма как пригодного способа оттеснения оппонентов на второй план[28]. Америка долгое время презентовала себя в качестве исключительно добронамеренного государства, но теперь это представление стало сочетаться с новым ощущением глобальной миссии. Стивен Вертхайм утверждает, что одной из черт американской исключительности является вера в то, что «мирное взаимодействие превзойдет систему силовой политики, возникшую в Старом Свете»[29]. Главенство США не станет следовать классическому имперскому образцу, а будет закреплено в ряде многосторонних институтов, прежде всего в ООН.
Второй была стратегия сдерживания, которую отстаивал дипломат и ученый Джордж Кеннан. В своей «длинной телеграмме», отправленной из Москвы 22 февраля 1946 г., Кеннан утверждал, что советская непримиримость проистекает из внутренней динамики сталинского режима. Запад ничего не мог сделать, чтобы смягчить этот фундаментальный факт. Следовательно, Западу придется ждать, пока какой-нибудь другой кремлевский лидер не пересмотрит приоритеты страны (этот аргумент позже был высказан в адрес Владимира Путина). Тем временем в более развернутой версии своей телеграммы он выступил за «долгосрочное, терпеливое, но твердое и бдительное сдерживание экспансионистских тенденций России»[30].
Такой подход был сочтен слишком пассивным для таких людей, как Дин Ачесон и Пол Нитце (который сменил Кеннана в отделе политического планирования Госдепартамента). Они выступали за более жесткий третий подход, утверждая, что сдерживание сработает только в том случае, если США сплотят свободный мир под своим руководством, «объединив всю Европу и Японию против СССР на основе политики силы и путем преувеличения советской угрозы»[31]. В апреле 1950 г. они вместе разработали документ Совета национальной безопасности – доклад N30–68, один из самых влиятельных правительственных документов США эпохи холодной войны, который был рассекречен только в 1975 г. В нем излагалась милитаризованная стратегия американского превосходства, изложенная идеологически насыщенным языком. Авторы предупреждали о растущей военной угрозе со стороны СССР и призывали к массированному наращиванию численности вооруженных сил и вооружений США. Эта ястребиная линия стала прообразом позиции неоконсерваторов более позднего времени.
США вышли из Второй мировой войны, безусловно, самым могущественным государством, но как они будут управлять миром? В конце концов, они стали соавторами международной системы Устава ООН, одновременно развивая собственные взаимосвязанные сети власти, которые вместе со своими союзниками стали политическим Западом. США сыграли центральную роль в разработке международной системы Устава ООН, но это было результатом сотрудничества и по-прежнему остается достоянием всего «международного сообщества». На самом деле, это и есть наиболее яркое проявление существования такого сообщества. Во время войны «сложился политический консенсус в отношении того, что мирный, основанный на законе мировой порядок является достаточно важным национальным интересом, чтобы оправдать принятие долгосрочных обязательств перед другими странами и приведение собственных действий Америки в соответствие с требованиями такого порядка»[32]. Не желая действовать в одиночку или возвращаться к довоенному изоляционизму, послевоенные американские элиты поняли, что закрепление гегемонии в рамках более широкого многостороннего порядка придаст ей большую легитимность и эффективность. Между осуществлением суверенитета США и ограничениями многосторонности неизбежно возникнет напряженность, но в конечном счете обе эти составляющие помогут сохранить гегемонию США. Во время холодной войны и после нее США устраивали перевороты и войны, чтобы защитить свою власть, используя ООН как источник легитимности, когда это было возможно, но в остальном действуя в одиночку или совместно со своими союзниками на политическом Западе. Применение права вето в Совете Безопасности ООН гарантировало, что многосторонность по Уставу не будет бросать вызов национальным интересам.
Параллельно Вашингтон создал Атлантический альянс, военную ветвь зарождающегося политического Запада[33]. Военный союз между СССР и западными державами подвергался испытаниям уже в начале 1945 г., когда начались последние сражения с нацистской Германией, и ему не суждено было долго продержаться в послевоенную эпоху. Столкнувшись с экономическим кризисом, Великобритания в 1947 г. фактически передала свои обязанности США, и после этого Вашингтон возглавил борьбу с коммунизмом в Греции, Турции и других странах. Доктрина Трумэна, объявленная Конгрессу в марте 1947 г., предусматривала поддержку стран, борющихся с коммунизмом, в то время как План Маршалла, принятый в апреле 1948 г., помог восстановить экономику семнадцати западноевропейских стран. К 1948 г. Первая холодная война была в самом разгаре и связь с западной частью разделенного Берлина осуществлялась лишь по воздуху, в то время как государства-сателлиты Советского Союза становились все более сталинизированными. Вскоре холодная война приобрела поистине глобальные масштаб[34]. Китайская Народная Республика (КНР) после победы Мао Цзэдуна в октябре 1949 г. стала частью коммунистического альянса. В ходе Корейской войны, начавшейся в следующем году, союзные войска сражались под эгидой ООН против Советского Союза и Китая. К концу 1950 г. союзникам удалось помешать Корейской народной армии захватить власть на Юге, но война затянулась до 1953 г., и формально разделенная страна все еще находится в состоянии войны. Поражение Франции в мае 1954 г. при Дьенбьенфу привело к разделению Вьетнама. Американская оборона Южного Вьетнама продолжалась до поражения в 1975 г. и воссоединения страны. Корейская война была единственной военной интервенцией США во время холодной войны, которая проводилась под эгидой ООН.
Послевоенный атлантизм сочетает жесткую силу с нормативными принципами демократии и прав человека, изложенными в Атлантической хартии. Статья 1 Вашингтонского договора обязывает подписавшие его стороны «мирно решать все международные споры, участниками которых они могут стать, не ставя при этом под угрозу международные мир, безопасность и справедливость», в то время как статья 2 обязывает их «содействовать дальнейшему развитию международных отношений мира и дружбы путем укрепления своих свободных институтов, достижения большего понимания принципов, на которых они зиждутся, и содействия созданию условий стабильности и благосостояния» и только после этого переходит к обязательствам по коллективной обороне в соответствии со статьей 5[35]. Иначе говоря, по выражению Киссинджера, Атлантическое сообщество представляло собой новое сочетание силы и легитимности. Ценности занимали центральное место в риторике, оправдывающей холодную войну, хотя и были скрыты логикой военной конфронтации. В эпоху после окончания холодной войны соединение безопасности и ценностей сделало демократический интернационализм действующей нормой для всей системы[36]. Это оправдывало сохранение роли НАТО и стимулировало различные усилия по смене режимов и государственному строительству в Косово, Афганистане, Ираке и Ливии.
Завершающим ингредиентом послевоенной мощи США является международная политическая экономия, другая половина либерального международного порядка. Она была разработана для того, чтобы избежать ошибок межвоенного периода, когда за бумом середины 1920-х годов последовал крах на Уолл-стрит в октябре 1929 г., а потом – массовая безработица и подъем фашизма. США поддерживали открытый экономический порядок, основанный на свободной торговле и демократических принципах. Бреттон-Вудские институты (Всемирный банк и Международный валютный фонд, МВФ) привязали доллар к золоту в качестве ориентира, по отношению к которому оценивались другие валюты. Парижское соглашение 1971 г. положило конец Бреттон-Вудской системе фиксированных курсов, открыв путь к финансиализации и эпохе повторяющихся финансовых кризисов. Правила Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) вступили в силу в 1948 г., а в январе 1995 г. ГАТТ стало Всемирной торговой организацией (ВТО), регулирующей международную торговлю товарами и некоторыми услугами. Борьба с коммунизмом способствовала появлению государств всеобщего благосостояния, описываемых Джоном Рагги как форма «укоренившегося либерализма», сопровождаемого социал-демократическими идеями равенства и социальной справедливости[37]. Однако еще до падения коммунизма ситуация изменилась. Неолиберальные ортодоксы 1980-х годов выступили против государства всеобщего благосостояния, промышленной политики и корпоративизма и вместо этого ратовали за приватизацию, финансиализацию и гибкие рынки труда.
В Европе был создан новый политический порядок в рамках большого Атлантического сообщества[38]. По мере усиления идеологической борьбы с коммунистическими идеями одним из условий предоставления помощи Маршалла стало взаимное сотрудничество европейских государств. Это способствовало созданию в июле 1952 г. Европейского объединения угля и стали, за которым в 1957 г. последовало создание Европейского экономического сообщества (ЕЭС) Германией, Францией, Италией и государствами Бенилюкса – Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Экономическая и нормативная мощь США была институционализирована в этих проявлениях экономического интернационализма. После 1989 г. он принял универсальный характер в форме глобализации, сопровождавшейся неолиберальным «отделением» рынков от прежних форм социал-демократического общественного контроля. Послевоенный европейский порядок основывался на легитимности и уважении международного права и различных гуманитарных целей, но он также был частью Атлантического сообщества безопасности, сформированного во время холодной войны. Это помогает объяснить, почему после 1989 г. атлантизм не смог уступить место панконтинентальному объединению, предложенному Горбачевым и его преемниками, а также европейцами, верными голлистскому видению Европы, выступающей в качестве третьей силы между США и СССР. Вместо этого либеральная гегемония после окончания холодной войны стремилась создать новый мир по своему образу и подобию, продвигая американские национальные интересы с помощью основных институтов безопасности, экономики и регулирования нашей эпохи[39].
Хельсинки и права человекаСоветский Союз был одним из основателей международной системы Устава ООН, но, как и США, он также создал и свой собственный порядок. Холодная война размыла разделительную линию между двумя странами, опустив «железный занавес… от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике», как выразился Уинстон Черчилль в своей знаменательной речи «Сухожилия мира», произнесенной в Фултоне, штат Миссури, 5 марта 1946 г.[40] С тех пор континент был перекрыт тем, чем стали две сверхдержавы, стоявшие во главе своих соответствующих альянсов. Советский блок простирался до Берлина и Праги, в то время как сеть коммунистических и социалистических движений охватывала весь земной шар. Представляя себя как революционную модель мирового порядка, советский государственный социализм своим узким догматизмом подорвал собственный преобразующий потенциал. Революционный активизм был отодвинут на второй план традиционными дипломатическими формами взаимодействия с миром государств. По мере того как революционный пыл ослабевал, Советский Союз все больше вел себя как традиционное государство, хотя и продолжал поддерживать иностранные коммунистические партии и различные национально-освободительные движения. Горбачев завершил переход от революционного к суверенному интернационализму, что сопровождалось решительной приверженностью принципам Устава ООН. К несчастью для него, амбициозная программа преобразований была сорвана торжествующим либеральным порядком во главе с США.
Чтобы понять, как это произошло, нам нужно вернуться к появлению противоположных моделей безопасности на последних этапах холодной войны. В начале 1970-х годов, когда наступил период разрядки напряженности времен холодной войны, министры иностранных дел Европы и Северной Америки собрались в июле 1973 г. в Хельсинки, чтобы обсудить вопросы безопасности. Итогом стало Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), которое охватило весь комплекс вопросов безопасности, политических, экономических и гуманитарных вопросов. Кульминацией этого процесса стала Хельсинкская конференция в августе 1975 г., в которой приняли участие 33 европейских государства (все, кроме Албании), а также США и Канада. Целью было создание всеобъемлющего и инклюзивного порядка безопасности, простирающегося «от Ванкувера до Владивостока». Это была послевоенная конференция, которой так долго добивался СССР, чтобы ратифицировать границы 1945 г., а также ряд соглашений в области экономики и безопасности[41].
Хельсинкский заключительный акт состоял из трех «корзин»: политической и военной, включая ратификацию послевоенных территориальных границ; экономического, торгового и научного сотрудничества, а также прав человека, свободы эмиграции и культурных обменов. В первой «корзине» были изложены десять основополагающих принципов, охватывающих «суверенное равенство» государств, «воздержание от угрозы силой или ее применения», «нерушимость границ», «территориальную целостность государств», «мирное урегулирование споров», «невмешательство во внутренние дела», «уважение к правам человека и основным свободам, включая свободу мысли, совести, религии или убеждений», «равноправие и самоопределение народов», «сотрудничество между государствами» и «добросовестное выполнение обязательств по международному праву»[42]. Хельсинки не только закрепил существующее положение дел, но и открыл путь к радикальным переменам. Основные постулаты представляли собой значительное расширение ценностей, лежащих в основе системы Устава ООН. Однако Заключительный акт воспроизвел в новых формах напряженность, присущую этой системе, в частности между суверенитетом национальных государств и приверженностью универсальным ценностям, которые выходят за рамки логики государственного суверенитета. Советский Союз достиг своей основной цели – официального признания границ, установленных в 1945 г., подтвердив тем самым итоги Ялтинской конференции, – но одновременно была поставлена под сомнение логика суверенитета великой державы.
Поддержка Москвой «третьей корзины», содержавшей принципы защиты прав человека, обеспечила правовую основу для выдвижения требований к советскому правительству со стороны диссидентских движений внутри страны. Достижения СССР в социальной модернизации и экономическом развитии на плановой основе теряли легитимность, поскольку сами нормативные основы советского правления стали предметом дискуссий. Это, в свою очередь, предоставило внешним державам мощный инструмент воздействия на Москву. Переход от суверенного к демократическому интернационализму не получил всеобщего одобрения даже на Западе. Реалист Киссинджер, госсекретарь при президенте Джеральде Форде, как известно, отверг идеализм положений «третьей корзины». Он едко заметил, что они могли бы быть написаны «на суахили, мне все равно»[43]. Несмотря на опасения Киссинджера, фундаментальный сдвиг произошел. Сэмюэл Мойн описывает новый подход как «последнюю утопию». Социалистическая забота о социальной и экономической справедливости была вытеснена приоритетом прав человека. Вместо прежнего акцента на модернизации и развитии теперь основное внимание уделялось «демократии» и «верховенству закона»[44].

