Утерянный мир. Как Запад не сумел предотвратить Вторую холодную войну
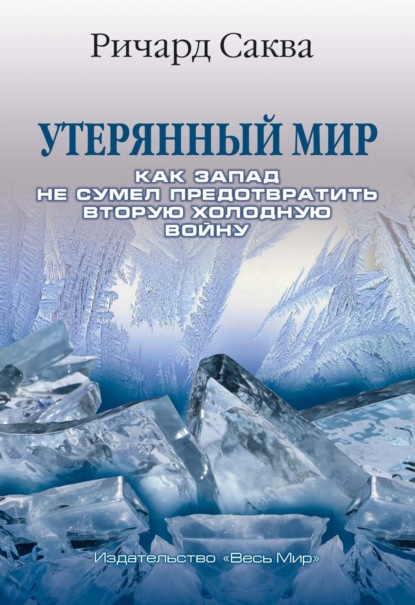
- -
- 100%
- +
За Хельсинкской конференцией СБСЕ последовали восемь обзорных конференций по европейской безопасности. Три конференции, проведенные во время холодной войны (Белград, 1977–1978, Мадрид, 1980–1983 и Вена, 1986–1989), обеспечили институциональную основу для расцвета нового мышления. Однако в краткосрочной перспективе дух разрядки продержался недолго, и к концу 1970-х годов холодная война снова была в полном разгаре, что вызвало разговоры о второй холодной войне[45]. Опасаясь, что Афганистан попадет в сферу влияния Америки, Москва направила туда в декабре 1979 г. «ограниченный военный контингент», чем положила начало войне, продлившейся девять лет и стоившей Советскому Союзу 15 тыс. жизней и неисчислимых ресурсов. Это стало классической войной чужими руками (прокси-война), поскольку США и их союзники вооружали и поддерживали сопротивление моджахедов[46]. Советско-афганская война предвещала распад Советского Союза, что неизбежно вызывает сравнения со «специальной военной операцией» России против Украины, начатой сорок два года спустя.
Новое политическое мышлениеПеремены в Советском Союзе долго откладывались, но когда они наступили, то пришли как бурная русская весна. После длинной череды неумело действовавших престарелых руководителей пост советского лидера в марте 1985 г. занял Горбачев. Его самым большим желанием было «нормализовать» советскую внешнюю политику в рамках интернационализма Устава ООН. Стратегия была направлена на Нью-Йорк, на штаб-квартиру ООН, а не на Вашингтон, сердце политического Запада, хотя последний неизбежно выступал в качестве главного собеседника. Горбачев апеллировал к многосторонности, лежащей в основе системы Устава ООН, и конечно же не предполагал подчинения политическому Западу.
Большая часть советской элиты признавала, что реформы давно назрели, хотя ее целью было скорее спасение, чем ниспровержение советской системы. Горбачев твердо верил в потенциал омоложения Советского Союза, основанного на обновлении социализма через перестройку. Реформаторский коммунизм Горбачева опирался на давнюю интеллектуальную традицию. Будучи студентом Московского государственного университета в начале 1950-х годов, он познакомился со Зденеком Млынаржем, который впоследствии стал одним из лидеров Пражской весны 1968 г. Под руководством Александра Дубчека «социализм с человеческим лицом» стремился соединить политические свободы с механизмами социалистического рынка. Реформаторское движение демонстрировало лояльность Советскому Союзу, но руководство Кремля при Леониде Брежневе это не убедило. В ночь на 21 августа Организация Варшавского договора вторглась в Чехословакию, направив в конечном итоге 500 тыс. военнослужащих и 6 тыс. танков из всех «братских» социалистических государств, за исключением Румынии и Албании[47]. Это стало величайшим вторжением внутрь самих себя в истории. Оно не только подорвало чехословацкие реформы, но и помешало попыткам обновления внутри самого Советского Союза, подготовив почву для того, что в 1970-х годах стало известно как эпоха застоя. Это был период, когда молодой Владимир Путин достиг политической зрелости. После крушения реформистского коммунизма его поколению недоставало идеализма шестидесятников (людей 1960-х годов, таких как Горбачев), которые верили в реформаторский потенциал ленинского социализма. Напротив, поколение 1970-х было упертым и материалистичным, даже циничным и нигилистским, озабоченным защитой государственной власти, а не коммунистической идеологии.
Политическое инакомыслие подавлялось, но в системе зрели идеи реформ. Они приняли форму «нового политического мышления», термина, который Горбачев впервые использовал в своем докладе на XXVII съезде Коммунистической партии Советского Союза 25 февраля 1986 г. и который он развил 18 месяцев спустя в своей книге «Перестройка: новое мышление для нашей страны и всего мира»[48]. Новое мышление стремилось опираться на достижения советского социализма, устраняя при этом то, что считалось идеологическим догматизмом, антирыночной жесткостью и чрезмерными ограничениями индивидуальных свобод[49]. Эти реформистские и космополитические взгляды развивались в контексте ухудшения отношений с Китаем и возможности возобновления разрядки в отношениях с Западом[50]. Новое мышление было результатом целого периода интеллектуального созревания в советской интеллектуальной жизни, особенно в различных институтах Академии наук[51]. Горбачев разработал свою собственную концепцию нового мышления, хотя на раннем этапе она все еще содержала много ортодоксальных идеологических установок[52]. Новое мышление отвергало классовые принципы в пользу «общечеловеческих» интересов и ценностей. Его основополагающей идеей была демилитаризация международных отношений. Конфликты должны были разрешаться политическими, а не военными методами, что является основным постулатом Устава ООН. Это влекло за собой прекращение разделения мира на блоки, устранение угрозы ядерной войны и предполагало большее внимание окружающей среде и развитию. Международная политика проводилась бы на основе баланса интересов и взаимной выгоды, а не баланса сил. Суверенный интернационализм устранял остатки революционного социализма, и Советский Союз присоединялся, выражаясь языком того времени, к мейнстриму человеческой цивилизации.
Новое мышление означало решительный отказ от классических марксистско-ленинских основ советской внешней политики. Преобладание классических геополитических идей, таких как сферы влияния, силовая политика, соотношение сил и вакуум власти, уступило место более мягкому и основанному на сотрудничестве восприятию международных отношений. Это не зашло настолько далеко, чтобы поверить в естественную гармонию интересов, но мнение о том, что капиталистические государства по своей сути агрессивны и милитаристичны, готовы воспользоваться любой слабостью, было отвергнуто. Коммунистическая идеология теряла свою власть над советским воображением, и прежние стремления «догнать и перегнать» западный капитализм давно превратились в несбыточную мечту[53]. Новое мышление отказалось от идеи классовой борьбы и мировой пролетарской революции. Были отброшены классические элементы марксистского историзма (представление о том, что смысл и цель истории познаваемы и, следовательно, поддаются управлению), а значит, оставлены претензии на историческую непогрешимость и неизбежность. Детерминизм идеологического мышления уступил место новой открытости внутри страны и за рубежом. Парадоксально, но как раз в то время, когда в Советском Союзе отказывались от классических постулатов марксистского историзма, западный либерализм выдвинул свою собственную аналогичную версию. Это вселяло оптимизм в отношении того, что эра «вечного мира», основанная на «конце истории», не за горами[54].
«Новое мышление» опиралось на идеи физика-ядерщика Андрея Сахарова, который стал одним из лидеров демократической революции в России во время перестройки. В конце 1960-х годов он утверждал, что коммунизм и капитализм могут «сблизиться», «конвергировать» на некоей гуманной основе и тем самым преодолеть ядерную конфронтацию[55]. Горбачев возродил идею конвергенции в своей знаменательной речи в ООН 7 декабря 1988 г. Он объявил о завершении холодной войны, отверг доктрину Брежнева об ограниченном суверенитете восточноевропейских государств и обрисовал последствия своего нового мышления. Он утверждал: «Дальнейший мировой прогресс возможен теперь лишь через поиск общечеловеческого консенсуса в движении к новому мировому порядку». Он продолжил: «Речь идет о сотрудничестве, которое было бы точнее назвать “сотворчеством” и “соразвитием”. Формула развития “за счет другого” изживает себя». Он подчеркнул важность «свободы выбора» и «деидеологизации межгосударственных отношений», а также их демилитаризации. Он изложил всеобъемлющую повестку дня, на которой должен основываться новый мирный порядок, включая укрепление центральной роли ООН, отказ от применения силы в международных отношениях и заботу об экологических проблемах. Основополагающими принципами были плюрализм, терпимость и сотрудничество[56]. Это было смелое подтверждение либерализма Устава ООН.
Вместо постоянно растущих оборонных бюджетов теперь должен был применяться принцип «разумной достаточности» для обеспечения обороны, и не более того. Новое мышление открыло двери принципу «свободы выбора» для стран Советского блока, сделав излишней блоковую дисциплину. Отказ союзников по Варшавскому договору от брежневской доктрины ограниченного суверенитета открыл путь к революциям 1989 г. и распаду Советского блока в целом. Уже в апреле правящая партия Польши отказалась от своей монополии на власть, и в июне в рамках согласованного переходного периода состоялись свободные выборы в парламент и сенат. В ноябре пала Берлинская стена, что открыло путь к воссоединению Германии. К концу года «бархатные» революции отстранили от власти коммунистические правительства в Чехословакии, Венгрии и Болгарии, в то время как в Румынии в декабре в результате более ожесточенной борьбы был свергнут диктаторский режим.
Вслед этим революциям против самого Горбачева выдвинули обвинение в том, что он предает не только коммунистические идеалы, но и интересы Советского государства. Критики осуждали его за то, что он отказался от с таким трудом завоеванных советских достижений и не получил взамен ничего, кроме туманных обещаний о сотрудничестве[57]. Позже эта критика ужесточилась еще больше в связи с вопросом о расширении НАТО, и в частности с принципом «свободы выбора», использованным во время объединения Германии в 1990 г. Москва считала, что классический образ Атлантической властной системы как вечно враждебной был ложным, и он уступил место представлению о возможности конструктивных отношений с ней. Это стало руководящим принципом зарождающейся «демократической» внешней политики России, проводимой под руководством министра иностранных дел Андрея Козырева, и такой подход преобладал до середины 1990-х годов[58]. После этого взяла верх все более жесткая защита российского суверенитета и осознаваемых государственных интересов. Такая смена была вызвана ощущением того, что позитивная мирная программа, обрисованная московским руководством, была предана и что политический Запад просто воспользовался доброй волей России.
На пути к позитивному мируПолитический Запад сформировался во время Первой холодной войны, но он был далек от монолитности. Уже давно высказывалось беспокойство по поводу милитаризма, связанного с холодной войной. Величайшие лидеры США с 1945 г. неоднократно обращались к вопросу о том, как можно было бы создать общий мирный порядок, что сопровождалось опасениями по поводу тяжелого бремени, налагаемого гонкой вооружений. Президент Дуайт Эйзенхауэр был одним из первых, кто озвучил темы, которые позже нашли отклик, опираясь на свой опыт верховного главнокомандующего союзными войсками во время Второй мировой войны. В своей речи «Шанс на мир», произнесенной 16 апреля 1953 г., всего через три месяца после начала его президентства и через три недели после смерти Сталина, он говорил, что американские и советские войска 25 апреля 1945 г. встретились на Эльбе, вдохновленные «общей целью», но это настроение «длилось мгновение и погибло», когда пути двух стран разошлись из-за различных представлений о мире и безопасности. Он предупреждал, что «Советский Союз испытывал те самые страхи, которые сам посеял в остальном мире, и страдал от них. Это был образ жизни, сформированный за восемь лет страха и насилия». И если нельзя найти способ свернуть с такого «ужасного пути», то худшим, чего можно на нем ждать, была атомная война, но и лучшего было не так уж много: «жизнь в постоянном страхе и напряжении; бремя вооружений, истощающее богатства и труд всех народов». Он охарактеризовал расходы на вооружение как кражу у народа: «Каждое произведенное орудие, каждый спущенный на воду военный корабль, каждая выпущенная ракета в конечном счете означают воровство у тех, кто голоден и не накормлен, кто мерзнет и не одет». По его словам, «под грозной тучей войны человечество оказывается распятым на железном кресте». Он предложил постсталинскому руководству возможность свернуть с пути конфронтации и создать новый мирный порядок[59].
Его устремлениям не было суждено сбыться. Вместо них беспрецедентная гонка вооружений привела к созданию глобального ядерного арсенала, который на своем пике в 1985 г. достиг 63 662 единиц. В США разветвленная военная экономика развивалась параллельно с гражданской, создавая общество потребления, которое мы знаем сегодня. Именно в эти годы было создано «трумэновское» милитаризованное государство времен холодной войны, которое затмило «мэдисоновское» конституционное государство. Майкл Гленнон описывает, как трумэновское государство установило прочные связи между различными родами вооруженных сил и разведывательными службами, политическим классом, средствами массовой информации, аналитическими центрами и некоторыми университетами. Все это, вместе взятое, стало структурной трансформацией американского государства, в котором военные подрядчики, вооруженные силы и их гражданские помощники играют огромную роль в ущерб дипломатии и традиционному государственному управлению. Конституционный контроль ослаб из-за имманентной сложности проблем национальной безопасности, а также из-за сохранявшегося двухпартийного идеологического консенсуса в отношении главенства и гегемонии Америки в мировых делах[60]. Эйзенхауэр упомянул об этом в своей прощальной речи 17 января 1961 г. Он предостерег от разлагающего влияния того, что он назвал «военно-промышленным комплексом», видя в нем сочетание «огромного военного истеблишмента и крупной оружейной промышленности». Как он отметил, это явление стало «чем-то новым для американского опыта». Он предупредил, что «потенциал катастрофического усиления неуместной власти существует и будет сохраняться»[61]. Эйзенхауэр предостерегал от создания перманентной военной экономики, которая исказила бы приоритеты американской внешней политики и отвлекла ресурсы от внутренних потребностей[62]. Однако, как утверждает Гленнон, в США сложился двухпартийный консенсус в отношении большой милитаризованной политики, несмотря на регулярную смену политического руководства.
Это не осталось незамеченным. Раздосадованный неудачей вторжения на Кубу в заливе Свиней в апреле 1961 г. и попытки свержения Фиделя Кастро, потрясенный тем, что мир оказался на грани ядерной войны в результате Карибского ракетного кризиса в октябре 1962 г., президент Джон Ф. Кеннеди обратился к вопросу о «мире во всем мире». В своей речи перед выпускниками Американского университета в Вашингтоне, округ Колумбия, в июне 1963 г. он задавался вопросом:
«Какой мир я имею в виду? К какому миру мы стремимся? Не к Pax Americana, навязываемому миру силой американского оружия. Не к миру в могиле и не к безопасности раба. Я говорю о подлинном мире – о том мире, который делает жизнь на земле стоящей того, чтобы жить, о том мире, который позволяет людям и народам расти, надеяться и строить лучшую жизнь для своих детей – не только о мире для американцев, но и для всех мужчин и женщин – не просто о мире в наше время, но о мире на все времена».
Кеннеди говорил о мире из-за «нового лика войны», при котором «один ядерный боеприпас обладает почти в десять раз большей взрывной силой, чем все военно-воздушные силы союзников во время Второй мировой войны». Таким образом, мир стал «необходимой рациональной целью разумных людей» и она была достижима: «Давайте проанализируем наше отношение к миру как таковому. Слишком многие из нас думают, что это невозможно. Слишком многие из нас думают, что это нереально. Но это опасная, пораженческая вера. Это приводит к выводу, что война неизбежна, что человечество обречено, что мы захвачены силами, которые не можем контролировать». Он был искренен по отношению к России:
«Ни одно правительство или социальная система не являются настолько порочными, чтобы их людей можно было считать лишенными добродетели. Как американцы, мы считаем коммунизм глубоко отвратительным как отрицание личной свободы и достоинства. Но мы все еще можем воздать должное русскому народу за его многочисленные достижения – в науке и космосе, в экономическом и промышленном росте, в культуре и за проявленное мужество».
Мы видели, как он настаивал на том, что «мир – это процесс, способ решения проблем», и призывал к практическим шагам в духе того, что мы называем суверенным интернационализмом, включая запрет на ядерные испытания[63]. Кеннеди был убит в ноябре, и Америка все глубже увязала в трясине войны во Вьетнаме[64]. Позднее попытка ослабить напряженность во время разрядки в начале 1970-х годов сменилась возобновлением холодной войны в годы правления Джимми Картера, которая усилилась после советского вторжения в Афганистан в декабре 1979 г. Позитивный мир был тогда так же неуловим, как и сейчас.
Глава 2. Время больших надежд
Новое политическое мышление вернулось к вопросам, поднятым Эйзенхауэром и Кеннеди: как положить конец гонке вооружений и милитаризму и ухватиться за перспективу позитивного мира. Хотя это и приветствовалось как признак того, что Советский Союз отказывается от своей враждебности, скептики в Вашингтоне восприняли планы Горбачева как угрозу лидерству США. Это побудило начать идеологическое контрнаступление с целью получить концептуальное преимущество. В конце концов столкнулись две модели порядка, установившегося после окончания холодной войны, обе были основаны на событиях, произошедших после 1945 г. Первая апеллировала к принципам Устава ООН и суверенному интернационализму, которые в региональном контексте были сформулированы как Общий европейский дом. Модель включала идею неделимости безопасности – ни одно государство не может обеспечить безопасность за счет другого. Вторая модель опиралась на несомненные достижения политического Запада, который вышел целым и невредимым из холодной войны. В региональном контексте это было сформулировано как цельная и свободная Европа, а также как прогресс в плане расширения политического влияния Запада и универсальной применимости либерального интернационализма. Казалось, для атлантической системы власти и демократического интернационализма не существует границ, что порождало экспансионистскую динамику, приветствуемую государствами бывшего советского блока, но которая все больше тревожила Москву. Эти два подхода, две модели вступили в косвенную, но явную борьбу, и обе стороны осознавали, насколько высоки ставки. Однако одна сторона была обезоружена своей убежденностью в том, что холодная война действительно закончилась, в то время как другая продолжала борьбу – из лучших или худших побуждений – в новых формах. Этот искаженный финал сформировал всю эпоху после окончания холодной войны, исказив реальность и термины, используемые для ее описания.
Новое мышление приносит свои плодыЖизнерадостный оптимизм президента Рональда Рейгана в 1980-х годах позволил забыть о поражении в Юго-Восточной Азии и возродил уверенность в будущем Америки. Он наращивал американскую военную мощь и заклеймил Советский Союз как «империю зла», однако оказался восприимчив к соблазну нового мышления и работал с Горбачевым и другими лидерами, чтобы положить конец холодной войне[65]. Горбачев нашел в Рейгане надежного собеседника, а совместное заявление, сделанное после их первой встречи в Женеве в ноябре 1985 г., провозглашало, что «ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей»[66]. На их встрече в Рейкьявике в октябре 1986 г. Горбачев предложил ликвидировать все ядерное оружие к концу столетия. Эти двое были удивительно близки к согласию в этом вопросе, хотя в конце концов американская сторона отвергла эту идею как нереалистичную и будь она принята, без сомнения, советские военные стратеги также оказались бы в тупике. Тем не менее это подготовило почву для подписания в декабре 1987 г. Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который впервые ввел запрет на целую категорию стратегических вооружений. США и СССР ликвидировали ракеты с дальностью действия от 500 до 5500 км и договорились об ограничениях на развертывание крылатых ракет наземного базирования.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанный в июле 1991 г., был самым амбициозным договором о контроле над вооружениями за всю историю, ограничившим количество ракет большой дальности каждой из сторон 1600 единицами. Для Москвы эти соглашения были не только средством сдерживания гонки вооружений, но и способом снижения расходов во время бюджетного кризиса. Экономические факторы были важны, но, что более важно, Горбачев разделял мнение Рейгана о том, что ядерное оружие – это мерзость, угроза человечеству, которое нельзя использовать и от которого следует отказаться как от категории. Различные соглашения позволили сократить мировые ядерные запасы к январю 2022 г. до 12 705 единиц, 90 процентов из которых принадлежали США и России. Были также введены ограничения на использование обычных вооружений. В ноябре 1990 г. между НАТО и странами Варшавского договора был подписан Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), ограничивающий количество и типы обычных вооружений, развернутых в европейской части России и Западной Европе. Сокращения были непропорционально значительными: страны Варшавского договора уничтожили более 30 тыс. единиц оружия, а западные союзники – почти ничего. Соглашение стало признаком надвигающихся проблем, потому что это было «урегулирование, которое обычно навязывается побежденному государству после войны»[67]. В том же месяце ДОВСЕ был дополнен Венским документом СБСЕ, предусматривающим осуществление мер по укреплению доверия и безопасности посредством обмена информацией и инспекций. Периодически обновляемая версия 2011 г. перестала действовать после начала Второй холодной войны в 2014 г.
В соответствии с постулатами нового мышления Советский Союз принял доктрину «оборонной достаточности», сопровождавшуюся сокращением развернутых вооруженных сил и расходов на оборону, которые в то время составляли примерно 15–20 процентов советского ВВП. Через несколько месяцев после своего выступления в ООН, 6 июля 1989 г., Горбачев произнес перед депутатами парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге свою историческую речь об общем европейском доме. Он подчеркнул открытость исторического момента и возможность присоединения Советского Союза к мирной Европе:
«Сейчас, когда XX столетие вступает в завершающую фазу, когда уходят в прошлое послевоенный период и “холодная война”, перед европейцами действительно открывается уникальный шанс – сыграть достойную своего прошлого, своего экономического и духовного потенциала роль в строительстве нового мира. <…> Мы убеждены: им нужна одна Европа – мирная и демократическая, сохраняющая все свое многообразие и придерживающаяся общих гуманистических идеалов, процветающая и протягивающая руку всему остальному миру. Европа, уверенно идущая в завтрашний день. В такой Европе мы видим собственное будущее»[68].
Он говорил о создании единого политического сообщества от Лиссабона до Владивостока, но также подчеркивал идеологический плюрализм и сосуществование государств с различными социальными системами. Дом, который он себе представлял, должен был состоять из множества разных комнат. Европейское (экономическое) сообщество, которое в соответствии с Маастрихтским договором от февраля 1992 г. стало Европейским союзом, должно было стать частью более крупного панконтинентального образования. Хотя детали были расплывчатыми, Горбачев призывал к новому мировому порядку, который был бы идеологически не однородным, а плюралистичным и разнообразным. Он призвал к такой «перестройке сложившегося в Европе международного порядка, которая решительно вывела бы на первый план общеевропейские ценности, позволила бы заменить традиционный баланс сил балансом интересов»[69]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
George Orwell, ‘You and the Atomic Bomb’, Tribune, 19 October 1945, https://www.orwellfoundation.com/the-orwell-foundation/orwell/essaysand-other-works/you-and-the-atom-bomb/
2
Здесь и далее в книге термину мирный порядок в русском издании соответствует термин peace order английского издания, а синонимичные английские термины world order и global order переведены на русский язык как мировой порядок. – Примеч. ред.

