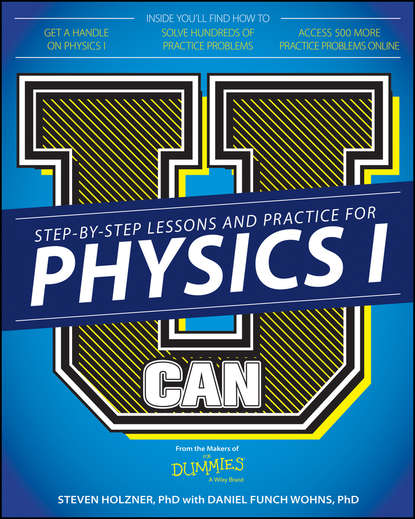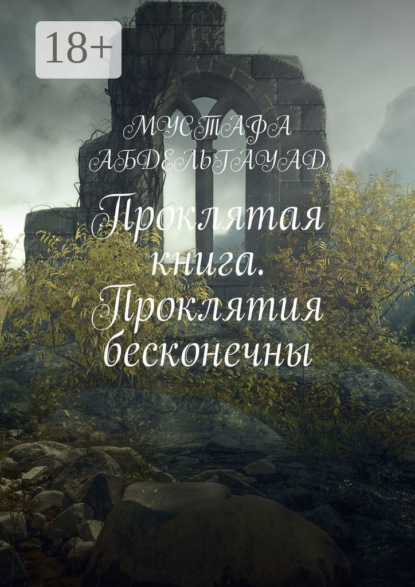Больше никогда не умирай
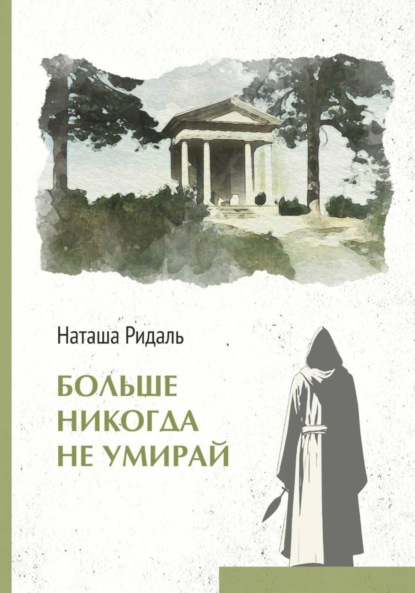
Выборг, 1922 год. На отмели у замка обнаружен труп молодой девушки, убитой клинком необычной формы. У коллекционера старинного оружия пропадает арийский кинжал, а обитатели усадьбы Монрепо всерьез рассуждают о древних ритуалах и альтернативной реальности. Ада Ритари гостит в Монрепо у подруги, где знакомится с фотографом Денисом Брискиным. Оба не подозревают, что знакомы уже давно. Как вышло, что они забыли друг друга? Связано ли это с ритуалом великого арийского жреца, и кто станет следующей жертвой убийцы?