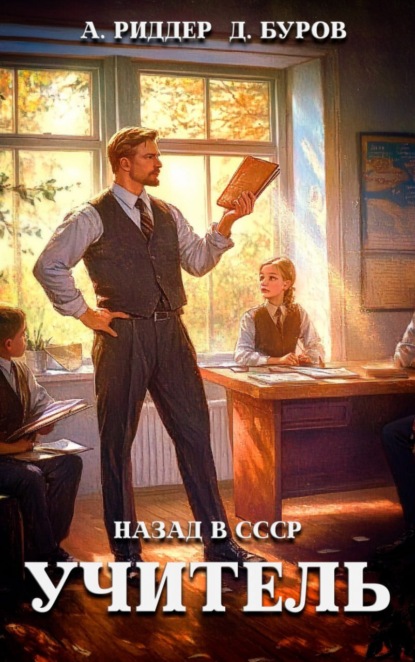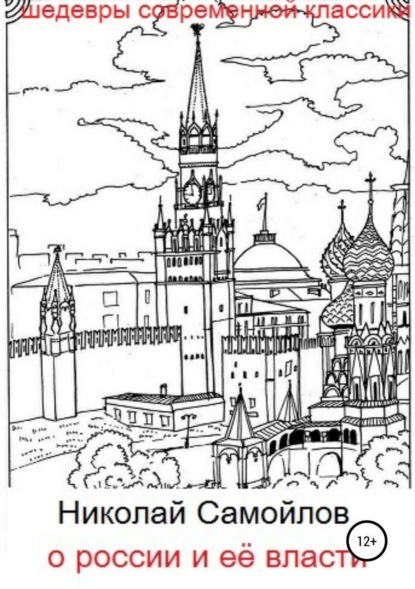Учитель. Назад в СССР 5
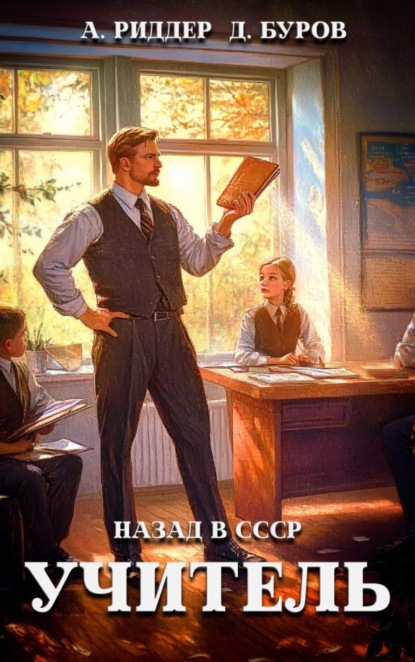
- -
- 100%
- +
– Во-от! И меня порол. И что?
– Что? – не понял я.
– И что я по-твоему, Ляксандрыч, плохой человек есть?
– Хороший, Василий Дмитриевич, – заверил я.
– То-то же! А вот твоя… лахудра… дура дурой… Нет. Вот ты мне скажи, баба – она ведь что? – Митрич прищурился и поглядел на меня хитро.
– Может, кто?
– Может и кто, – согласился дядь Вася. – А я вот что тебе скажу, Егор: баба – она создание хитрое. Ей ведь как надобно? А?
– Как? – улыбнулся я.
– Что б по ейному завсегда было.
– Верно говоришь, Митрич, – согласно закивал завхоз.
– Так то и говорю. А твоя баба – молодая, дурная, не научил никто бабским-то премудростям. Пропадет она с таким-то норовом.
– Что ж за премудрости такие? – поинтересовался я, уже больно интересно вывернул разговор.
– А вот такие. Умная баба она мужиком как хошь вертит. Потому как секрет знает.
– Это какой-такой секрет?
– Какой?
Практически одновременно спросили мы со Степаном Григорьевичем.
– А такой! Умна баба, Ляксандрыч, она с мужика веревки вьет, потому подход правильный знает.
– Верно говоришь, Митрич, – согласился Борода. – Умная баба она ласкою берет. Вот фельдшерка новая – баба умная.
– Это да, – закивал Митрич, косясь в мою сторону.
– Тут глядеть в оба надо, не то уведут.
– Это точно, – подтвердил дядь Вася. – Только, думаю, не уведут.
– Это еще почему? – удивился Степан Григорьевич.
– Все потому – баба она умная, Оксана наша свет Игоревна. На правильного человека глаз положила, – хохотнул Митрич. – Ты, Ляксандрыч, не теряйся, не упусти счастья-то своего. А эту… выпроваживай обратно. Там ей самое место.
– И рад бы, Василий Дмитриевич, да никак не выпроваживается.
– Молодой ты, Егор Александрыч. Неопытный. Пожалел змею. А надо было сразу взашей гнать, – опечалился Степан Григорьевич.
– Ну, что уж теперь, – усмехнулся в ответ.
– Теперь только ждать и на глаза змеюке твоей не попадаться, – посоветовал Митрич.
– Что ж мне, прятаться что ли? Нехорошо, Лиза на селе никого не знает, да и травма серьезная. Ни в магазин сходить, ни обед сварить, – поделился я своими печалью.
– За обед ты не беспокойся, – заверил Митрич. – Я с Маней поговорю, чай, не обеднеем, куском хлеба поделимся. Ты, главное, работай спокойно, Ляксандрыч, детишек учи. Да вон махину вовремя сготовь.
– Какую махину? – не сообразил я.
– Лампочку Ильича, – напомнил дядь Вася.
– Сварганю, за это не переживайте, – усмехнулся, осознав, что за мужскими разговорами совсем забыл, зачем мы здесь сегодня собрались. Да и на душе, если честно, как-то оно легче стало. Словно камень скинул, выговорился.
– Ночевать куда определил, фифу свою? – внезапно поинтересовался Митрич.
– Так ключи от нового лома забрал у председателя. Туда и отправлю. Все лучше, чем у меня в одной комнатушке. Обустрою быт, чтобы все под рукой было. С утра проведаю и на работу. С обедом вот не знаю как…
– Сказал же, обед на себя возьму… Ежели чего, внук принесет… он все одно раньше со школы приходит, чем ты.
– Это да. Спасибо, Василий Дмитриевич, – поблагодарил соседа.
– Ты вот чего, Егор Александрыч… – заговорил молчавший до этого Степан Григорьевич. – Ты с фельдшеркой-то поосторожней. Хорошая девка-то…
– Хорошая, и спорить не буду, – опеши я. – Поосторожней-то к чему?:
– Побереги девку-то, наши бабы, ежели чего, кого хошь со свету сведут языками своими погаными. Уж не обидь докторшу, хорошая она. Светлая… прям как ручеек чистый… Это она с виду строгая да серьезная, а копни глубже тут-то все и вскроется…
– Что вскроется? – напрягся я.
– Душа, Егор Александрыч… душа чистая… водицу-то замутил кто-то, только-только посветлела. Не обидь, говорю. Папки с мамкой нету у нее, слыхал я. Сиротой осталась недавно, года с два как. Ни братьев, ни дядьев на защиту. Так что гляди у меня! – завхоз погрозил мне пальцем.
– Не обижу, – улыбнулся я.
От этой угрозы отчего-то на душе стало как-то тепло, что ли, легко. Будто с батей родным поговорил, которого отродясь не знал. Радостно стало на сердце, словно есть до меня, Егора-Саныча, на всем белом свете кому-то дело. О мыслях моих, о душевных переживаниях. Впервые за столько лет.
Глава 4
После разговора по душам я накатил с мужиками еще пару рюмок, оставил их обсуждать политику партии, пятидневку и культ личности, сам же перешел в другую часть мастерской. Последний вопрос, насчет культа, давненько занимал умы обоих друзей, если судить по репликам и началу разговора. Такое чувство, что разговор не прекращался, и начали его Митрич с Бородой давным-давно.
Разбирая подготовленные запчасти, я краем уха прислушивался к разговору, чтобы понять какие настроения бродят среди обычного гражданского населения.
– Нет, вот ты мне скажи, а, – горячился дядь Вася. – Вот придумали жеж «культ личности»! А вот товарищ Жуков заявил, что это не по заветам Маркса. Не по марксистски это. и как быть? Вот ежели нету такого этого самого понятия!
– Да что ты мне ваньку валяешь, – возмутился Степна Григорьевич. – Тыкаешь каким-то Жуковым. Он кто? Полководец? Нет! А других Жуковых я не знаю! Вот и не тыкай мне! Нету и нету этого твоего культа личности! Выдумали все, голову дурят, прихвостни капиталистические! – вещал Борода. – Ты слыхал, чего грузинские коммунисты на собрании в Москве сказали? А?
– И чего? Ну чего твои грузины сказали? – хмыкнул Василий Дмитриевич, разливая очередную порция огонь-воды.
– А того! Реабилитировать товарища Сталина и все тут! И правы они, вот я тебе чего скажу. Да! Пра-вы! – по слогам припечатал Борода. – Мы с товарищем Сталиным войну выиграли! А эти… – завхоз махнул рукой. – Я-что ни на есть сталинист и все тут. И пусть в меня плюнут, ежели откажусь! Вот так вот-то! – припечатал фронтовик.
– Дык, а я тебе чего? – изумился Митрич. – Вот ты вечно, не дослушаешь, не разберешься, а гнешь свою линию! Я ж тебе, старому тетереву, чего твержу. Товарищ Жуков с товарищами историками в самой «Правде» написал, так, мол, и так, дорогие товарищи. Несостоятельны эти ваши заблуждения насчет сталинизма. Возьмите свои слова обратно, а не то… – Митрич от души прихлопнул по столу ладонью. Стаканы звякнули, мужики замолчали, сурово глядя на нарушителей душевного спокойствия. – А не то всем покажем кузькину мать, – закончил дядь Вася.
– Брешешь, – уверено заявил Борода. – Не писали такого в «Правде».
– Это чего жеж не писали! Еще как писали! – возмутился Митрич. – Ежели не читал, так и нечего!
– Вот прямо-таки про кузькину мать? – прищурился завхоз. – Товарищи историки?
– Ну-у-у… может про кузькину-то мать я и приплел для полноты аргумента. А про сталинизм ни в одном глазу! Сами профессора высказались!
Как по мне, мужики спорили об одном и том же. Даже и не спорили вовсе, а делились чувствами. Я быстро потерял нить рассуждений, кто кому чего пытался доказать. Вроде бы оба за реабилитацию товарища Сталина, а никак во взглядах не сойдутся.
– То ладно, – после того как товарищи выпили, первым заговорил Митрич. – Ты мне вот чего скажи… Слыхал всеобщая воинская повинность?
– Читал, – солидно ответил Степна Григорьевич.
– Ну и чего думаешь? – пытливо затребовал дядь Вася.
– А чего тут думать? Партии виднее! Да и то, верно все: на защиту страны всем миром подниматься надобно. А то как было? – завхоз уставился на Митрича.
– Как? – чуть растерялся Беспалов.
– А то не знаешь, – цокнул языком Борода. – Вот ты мне скажи, разве справедливо, когда одни под ружье, а другие в кусты, по всяким там убеждениям.
– Несправедливо, – согласился дядь Вася.
– И по возрасту хорошо придумали. Со школы в армию вот правильно, считаю. Там и мозги-то в порядок приведут, и дисциплине опять же выучат. А вернулся и женись, и на работу! Хочешь – учись, кто мешает.
– Так не мешает никто! – и тут поддержал товарища Митрич. – Только думается мне, верно ли всех под одну гребенку, разом? Оно ж как было… и четыре, и пять годков службишка. Тут, как говорится, кто на что выучился. А теперича чего все по два годка? И чего они за два-то годика выучат? Хорошо ежели Устав.
– То ты брось, Василь Дмитрич, – не согласился завхоз. – Армия выучит. Ежели надо, и вышивать научит. Вот у нас, помню, старшина был. Зверь, а не старшина! Но – как отец родной! Тут понимать надо политику партии. Ты глаза-то разуй. Кому два годка, кому три. А как ученый, так и вовсе полтора годика.
Мужики продолжили обсуждать армейские будни, я переключился на схему светильника. Проверил размеры, количество необходимых деталей. Прикинул сколько понадобится лампочек и проводов.
– Лучше с запасом, мало ли что, – пробормотал вслух, исправляя цифру в заметках.
– А вот скажи мне, чего эта неметчина все пырхается? А? Мало им, похоже, надобно еще разок нахлобучить. Вот чего я тебе скажу! Давить их надо было всех, без разбору, к ногтю и все тут! – возмущался Митрич.
Степан Григорьевич хмуро кивнул головой, разлил по полному, друзья-товарищи подняли стаканы, помолчали и выпили, не чокаясь.
– Говорю тебе, гидра фашистская снова голову поднимает!
– Какая гидра? – буркнул завхоз.
– А такая! – навалившись на стол, принялся объяснять дядь Вася. – Мне вона внучок рассказывал. Это, понимаешь, змеюка такая, страшная. Ей голову рубишь, а заместо отрубленной новая вырастает. Две, а то и три! Вот и немчура проклятая так. С корнем драть надо с корнем!
– Брехня! – отмахнулся Борода.
– Брехня-то может и брехня, так то ж сказка из книжки. А гидра эта фашистская она самая и есть! Верно тебе говорю!
– Сдюжили раз, и другой сдюжим. Думаешь, закон на упреждение про армию-то? – задумчиво протянул Степан Григорьевич. – К войне что ли?
– Да сплюнь, тебе говорю! – Митрич смачно сплюнул через плечо и постучал по дереву. – Предупрежден, значитца вооружен! Партия знает, чего надобно!
– Я тебе так скажу: давить их, гадов, по всему миру давить, – завхоз стукнул по столу кулаком. – Чтоб неповадно было! Чтоб не расползлась зараза! Ишь, сволочи! Гидра, говоришь? Гидра и есть!
Собеседники переключились с закона о всеобщей мобилизации, о котором на днях сообщили центральные советские газеты, на зарубежную политику.
На момент моего попадания в новую жизнь, правительство Советского Союза, как я успел выяснить из газет, снова и снова обращало внимание мировых государств на ситуацию с Федеративной Республикой Германией. Даже выступило с заявлением о том, что в несмотря на Потсдамские решения в ФРГ продолжают активно процветать идеи нацизма и гитлеризма.
Советский Союз волновало возрождение фашизма в германской республике. В то время как федеральное министерство внутренних дел ФРГ официально, но очень осторожно признавало: мол, в действия неонацистских партий и организациях присутствуют некоторые моменты национал-социалистической идеологи. СССР же открыто утверждал: новые демократические партии, которые заняли депутатские кресла в земельных парламентах Гессена и Баварии, откровенно шовинистические, спят и видят, как восстановить третий рейх.
Под равномерный бубнеж и звон стаканов я так глубоко погрузился в расчеты, прикидки и доскональную проработку, что едва не выронил из рук карандаш, когда кто-то хлопнул меня по плечу.
Выпрямившись, оглянулся и увидел завхоза. Борода стоял, подсунув оба больших пальца под ремень, чутка раскрасневшийся, хмурил брови, стараясь выглядеть серьезным и внушительным. И трезвым.
– Ну чего тут, Егор Александрыч? – сурово поинтересовался Степан Григорьевич.
– Все в порядке, – вежливо ответил я, с досадой поглядев на импровизированный стол, за котором друзья-товарищи обсуждали высокие материи. – По домам? – уточнил я, откладывая карандаш.
– Мы – да, – кивнул Борода. – На-ка вот, – на кусок фанеры, которую я разлиновывал под конструкцию каркаса, плюхнулась связка ключей. – Вот этот от мастерской, – начал инструктаж Степан Григорьевич. – Этим замкнешь калитку на школе. Оно, конечно, хулиганья у нас отродясь не водится, но порядок должен быть во всем!
Товарищ Борода строго на меня посмотрел и для важности момента даже задрал к верху указательный палец.
– Согласен, – кивнул я, мысленно потирая руки: пьяные мужички разбредутся по домам, а у меня в запасе еще полдня, чтобы довести до ума макет и приступить к созданию конструкции.
До ноябрьского юбилея оставалось всего ничего, а у нас, что называется, конь не валялся. То понос, то золотуха, то салют в честь Дня Учителя.
– Чтоб никого! – погрозил пальцем Степан Григорьевич.
– Никого, – подтвердил я, с трудом понимая, кого завхоз имеет ввиду.
– Проверю! – Борода сурово сдвинул брови. – Закончишь, запрешь, ключи занесешь.
– Так точно, Степан Григорьевич, – отчитался я.
– То-то же! – завхоз улыбнулся, похлопал меня по плечу, развернулся и слегка пошатываясь вернулся к Митричу, который деловито прибирал со стола.
Судя по свертку, в который дядь Вася складывал остатки закуски, добрые товарищи решили сменить место дислокации. А поскольку дома у Беспалова любимая жена на страже, скорей всего, отправятся мужички к Степану Григорьевичу в гости. А может и к кому третьему. Впрочем, меня их дальнейшие приключения мало интересовали. Не маленькие, разберутся. Оставили меня в мастерской – за это отдельное спасибо.
– Ушли мы, не засиживайся допоздна, – заботливо проворчал Митрич, появляясь за моей спиной.
Я пожал протянутую ладонь, пообещал следить за временем и снова углубился в работу.
– Запрешь! – раздалось от дверей.
– Сделаю.
– Ключи занесешь! – напомнил Борода.
– Сделаю, – так же машинально подтвердил я. – До свидания.
– Ну, бывай, Ляксандрыч.
– Угу, – не оглядываясь, кивнул я.
Через минуту в мастерской наступила тишина, только слабый запах огонь-воды и еды напоминал о том, что в помещении обсуждались судьбы страны и мирового сообщества.
В животе забурлило, и я пожалел, что не прихватил с собой из дома сверточек с пирожками от Марии Федоровны. Одним бутербродом с салом сыт не будешь. Я оглянулся на стол, но мужички за собой тщательно убрали. Шарить по кабинету Степана Григорьевича в поисках чайника не хотелось, не правильно это. Потому я вздохнул, затянул потуже пояс, что называется, и вернулся к работе. Процесс создания чего-нибудь эдакого всегда увлекал меня настолько сильно, что я забывал обо всем на свете, в том числе и о еде.
Итак, что мы имеем? Добротный кусок стекла, фанеру, лампочки и провода помог раздобыть завхоз. Юрий Ильич тоже поучаствовал в поисках и добыче материалов. Я огляделся, заметил школьную доску, подхватил ватман, на котором нарисовал схему увеличенной лампочки Ильича. Вот ведь, прижилось название, я даже мысленно теперь светильник только так и называю.
Канцелярскими кнопками прикрепил рисунок к доске, чтобы наглядней видеть идею. И все-таки… все-таки… надобно привлечь к процессу Веру Павловну, учительницу рисования. Бродила у меня в голове идея двойной экспозиции, скажем так. Но для создания такой лампы надо раздобыть еще один стеклянный лист и привлечь художника.
Тут в голове всплыла мысль о том, что в моем десятом классе хорошо рисует Полина Гордеева. Девочка скромная, молчаливая, но очень отзывчивая и трудолюбивая. Ее рисунки украшали кабинет Веры Павловны Дмитриевой. На паспорту была наклеена аккуратная этикетка с именем и фамилией ученицы.
Я даже стал случайным свидетелем разговора Веры Павловны с нашим вездесущим завучем. Зоя Аркадьевна настаивала на том, что имени ребенка не должно быть на рисунке. С точки зрения товарища Шпынько подобное слишком выделяет ученицу среди других учеников, что обязательно приведет к зазнайству и повышенному самомнению.
Учительница рисования категорически не соглашалась с Зоей Аркадьевной, утверждала, что каждый труд должен быть если не оплачен, то оценен по достоинству. Подпись на рисунке в данном случае и выступает своего рода признанием. Любой труд должен быть вознагражден, и нет ничего постыдного в том, чтобы поставить свою подпись под хорошей работой.
К моему удивлению, Вера Павловна выиграла тот спор. Оказывается, не только я «шпыняю» товарища Шпынько своими непривычными взглядами.
– Так, – я достал блокнот, который неизменно таскал в кармане и записал. – Поговорить с Полиной, при необходимости обратиться за помощью к Дмитриевой.
Кинул взгляд на схему, подумал, прикинул, и принялся черкать в блокноте новую форму лампочки Ильича.
– Похоже, двумя стёклами не обойдемся, – задумчиво пробормотал я, разглядывая свой корявый шедевр. – Нужно три для полноты иллюзии. На первом рисуем короткие языки пламени, на втором серп и молот, на заднем полностью рисуем пламя. И форму лампы делаем в форме костра.
Я кивнул, посмотрел на предыдущий рисунок и усмехнулся: товарищи Борода и товарищ Свиридов гарантировано начнут протестовать. Потому как я практически все переиначил. Ну да ладно. Привлеку учеников, вместе не только веселее, но и сподручнее.
Насчет мастерской переговорю с завхозом. Мелкие детали можно отдать на откуп Степану Григорьевичу на уроки труда, чтобы он с мальчишками выпилил. А крупными займемся мы с десятым классом. Если я правильно помню, кто-то мне говорил, что Федя Швец отлично работает стеклорезом, увлекается резьбой по дереву.
Под основание мы подобрали фанеру, будем сооружать короб, на который водрузим лампочку Ильича в виде пионерского костра.
Я задумался, прикинул все за и против, и быстро набросал эскизы для основания. Ну а что, самый простой вариант – это выкрасить все в однотонный свет. Но наша конструкция – она ведь не на один день. Мы же можем после демонстрации поставить ее в школе на видном мест. Прикрепить табличку, кто участвовал в создании изделия. Почему бы и нет? Достойно? Достойно! Вещь, созданная, руками учеников – это ценнее, чем руками учителей.
И девочки участие примут в работе.
Совместный труд, как говаривал кот Матроскин, облагораживает. Как по мне, он еще и объединяет, работает на доверие и учит молодое поколение уму-разуму.
Кто-то из известных советских педагогов говорил: детям необходима радость труда. Потому как эта самая радость принесёт с собой не только успех, но осознание собственных умений, важности проделанной работы. Ну а конечная точка труда, как ни удивительно, это возможность доставлять радость другим.
Труд, впрочем как и трудовое воспитании, не потерял своей актуальности и никогда не потеряет. Как бы ни старались в будущем привить мысль о халяве и прочем зле. Спрашивается, кому мешали уроки труда, на которых девочки учились готовить и шить, а мальчики строгать и гвозди забивать? Никому.
Вопрос: откуда повылазили эти странные психологи, которые заявили, что малышам нельзя доверять ножницы, опасно, мол. Так и клеить заготовки из цветной бумаги тогда тоже опасно. Вдруг ребенок в детском садике лизнет клей. Дети большие любители познавать мир необычными способами. Лизнет и траванется. Так что же теперь, аппликации запретить? И рисование?
Честно говоря, очень я любил по малолетству облизывать кисточки, испачканные в акварельную краску. Когда появились медовые краски, мы с пацанами проверяли, есть в них всамделишный мед, или нет. Самым действенным способом – на зубок. Так ведь не помер я от проверок, и даже не отравился.
Оно, понятное дело, до определенного момента у детворы инстинкт самосохранения ниже уровня плинтуса. До сих пор не понимаю, как многие из нас, да что там, как все мы выжили, если вспомнить наше веселое детство. Чего мы только не творили. Карбиды, стройки, подвалы, костры, ножички, фехтование на палках, хоккей на льду моря. А катание на санках по дороге? А с горки практически под колеса автомобиля, если не успел притормозить?
Сломанные руки от падения с дерева. Ну а что поделать, если самые сладкие абрикосы на самом верху, а дерево старое. Выбитые в драке зубы, подбитые мячом глаза.
Вот серьезно, черт его знает, как выжило поколение детей, которые не знали, что такое гаджеты, но зато знали, как испечь картошку, разжечь костер и смастерить из палки самый настоящий меч. А еще знали, что такое общественно-полезный труд, субботники, мытье полов в классе, уборка в доме, мытье посуды. Для которых лучшая в мире игра – с батей в гараж машину чинить, или там молотом постучать по гвоздю, проверяя пальцы на прочность. И это я молчу про мопеды.
Вот лично я уверен в том, что труд – это не только удовольствие. Это возможность определиться с будущим, понять свои силы. Совместный труд для воспитания – это просто кладезь для взаимодействия взрослого с ребенком любого возраста. Тут тебе и деловые отношения, и потребность в обратной связи, и взаимопомощь вместе с пониманием, и дисциплинированность и забота. Много чего. Привычка трудиться она формирует осознание к труду, без понуканий и принуждений.
А когда родители за детей до последнего класса кружки-тарелки моют, в комнате убирают, носки стирают, ребенок привыкает, что все ему должны и обязаны. Его задача только учиться. И тут вопрос: многие в таких ватных условиях действительно учатся, или делают вид, отмазываясь домашками, лишь бы не помогать по дому? То-то и оно.
– Да, Саныч, труд к тому же благоприятно действует на твои мыслительные процессы. Целая идеология будущего в голове складывается, – выдал я вслух, усмехаясь.
На листах блокнота один за другим появлялись наброски сцен из пионерской жизни, из комсомольских будней. Я прикидывал, какие картины из жизни нашей школы можно сделать на четырех частях основы с помощью выжигателя. Накидал набросков, посмотрел скептически и решил добавить масштабности, все-таки 50 лет Октября, не день рождения жеребцовской школы. А значит что? Правильно, БАМ, поднятие целины, великая Победа, полет Юрия Гагарина – вот так будет лучше!
За работой время неслось быстро, я так увлекся, что не заметил, как наступил вечер. С сожалением собрав наброски, прибрал за собой рабочее место, аккуратно разложил распиленную по размерам фанеру, ошкуренную мелкой наждачной бумагой. Увлекшись, я полностью подготовил дерево к дальнейшей работе.
Покачал головой, хмыкнул: хотел с ученикам, получилось как всегда, увлекся.
Оглядел рабочее место, подмел, занес стекло с разметкой в кабинет Степана Григорьевича, чтобы ненароком на первом уроке не зацепили, покинул мастерскую, запер за собой дверь и отправился сдавать ключи хозяину.
Шел по уже знакомым улицам довольный и даже счастливый. Мысли о насущных проблемах с Лизаветой отступили куда-то на задний план. Все решаемо. Никакая Баринова не способна помешать моим целям и задачам.
Удовольствие от работы руками не покидало. Собственно говоря, труд – один из способов получить эти самые знаменитые эндорфины, за которыми в моем будущем все гоняются, но под носом не видят. Проще говоря – радость от жизни.
Когда и как в той будущей жизни мы успели потерять главную ценность труда? А ведь труд приносит радость. И эта самая радость – та самая гигантская воспитательная волна, которая помогает детворе воспринимать себя частью коллектива и одновременно личностью. Чего только не придумывали лучшие педагогические умы, чтобы привлечь детей к труду. Оно понятно образование – главная задача. Но если подать физический труд как средство достижения цели, мотивация у ребенка вырастает в разы.
В голове всплыла любопытная фраза, вычитанная в какой-то книге: детство не должно быть постоянным праздником. Без посильной трудовой деятельности ребенок никогда не познает счастье труда. Вот прям в точку. С моей точки зрения, каждый ребёнок от рождения талантлив, и труд дает возможность не только проявить эти самые таланты, но и раскрыть их, выявить природные задатки.
– О, Егор, ты чего тут? – раздался удивленный мужской голос, я вынырнул из своих мыслей и с недоумением уставился на физрука.
Глава 5
– Григорий? – удивился я. – Ты как здесь? А, черт, ну, конечно, – сообразил я, окончательно выныривая из своих мыслей. – Привет, Гриш. Степан Григорьевич дома?
– Нет его, – чуть напряженным голосом ответил Гришаня. – А тебе зачем?
– Да вот, ключи занес, – я вытащил из кармана связку ключей. – Передашь ему?
– Передам, как увижу, – принимая добро, буркнул Борода младший. – А… ты с батей где виделся? – поколебавшись, уточнил физрук.
– В школьных мастерских, – рассеянно ответил я, намереваясь уходить.
– Давно? – продолжал допытываться Гришаня.
– Ну… несколько часов назад, пожалуй… В обед мы встретились, а часа в три дня они ушли из мастерской, оставив ключи, – припомнил я.
– Они – это кто? Батя с Василь Дмитричем? – уточнил Григорий.
– Ну да, а что случилось? – теперь уже я напрягся. – Не дошли домой?
– Угу… – мрачно кивнул Гриша. – Ладно, раз с Митричем, я тогда знаю, к кому они могли забуриться.
– Проблем не будет? – уточнил у физрука.