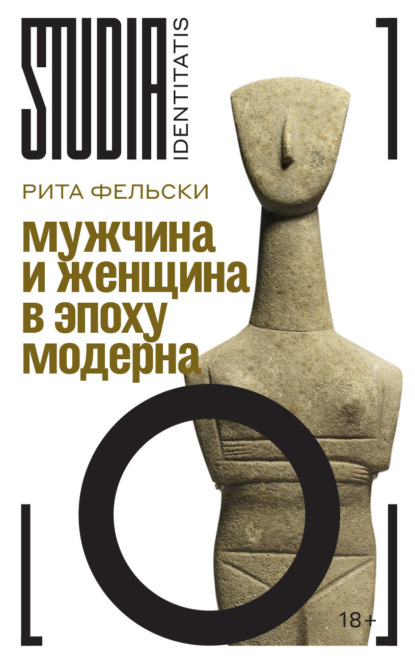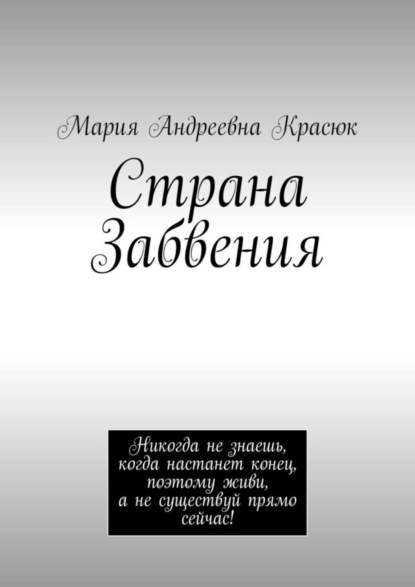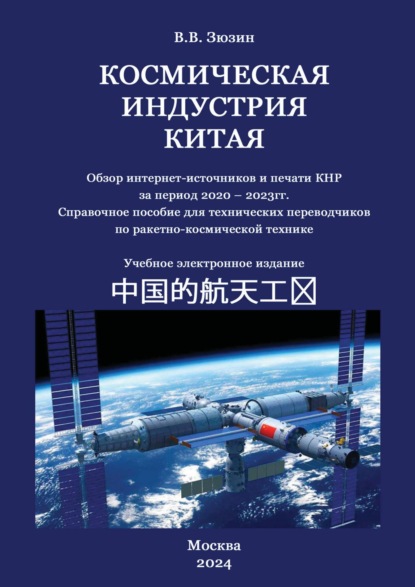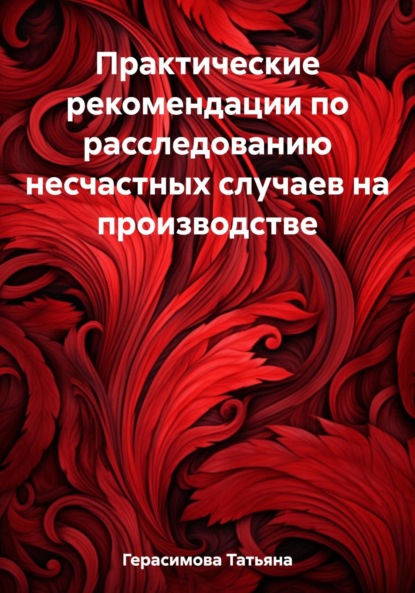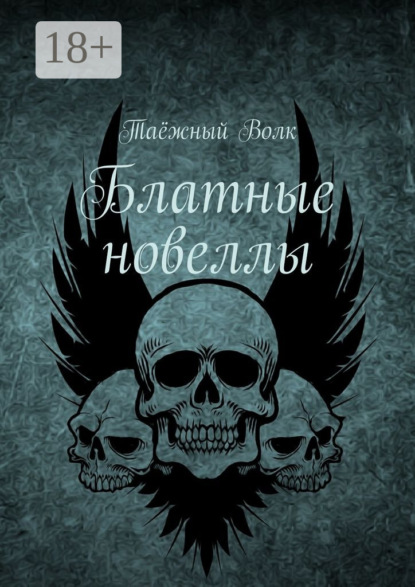- -
- 100%
- +
Однако существует и корпус феминистских работ о современности, который в значительной мере повлиял на доводы, представленные в этой книге. Помимо предпринятых Элейн Шоуолтер и Сандрой Гилберт со Сьюзен Губар попыток заново написать литературную историю рубежа веков, я нашла чрезвычайно полезными недавние работы Элизабет Уилсон, Кристин Бюси-Глюксман, Рейчел Боулби, Нэнси Армстронг, Андреаса Хейссена и Патрис Петро[35]. Всех этих критиков объединяет осознание и признание сложных взаимосвязей между женщиной и современностью, наложения этих категорий друг на друга и в то же время противоречий между ними. Не придерживаясь ни нарратива прогресса с его допущением, что модернизация привнесла однозначные улучшения в женскую жизнь, ни контрмифа с его ностальгией по райски-безмятежному, еще не тронутому отчуждением золотому веку, эти авторы предлагают взвешенный взгляд на изменчивые сложности современной эпохи в ее связи с гендерной политикой.
С одной стороны, как отмечали многие авторы-феминисты, в XIX веке устанавливались все более жесткие границы между частной и публичной сферами, так что гендерные различия закрепились и обрели внешне естественные и неизменные черты. Разграничение между целеустремленной, соревновательной мужественностью и опекающей, домоседливой женственностью оставалось идеалом, возможным лишь для немногих семей среднего класса, но тем не менее оно сделалось популярным шаблоном, на который были ориентированы многие аспекты культуры. Мэри Пуви отмечает, что
модель бинарного противопоставления полов, находившая социальное воплощение в отдельных, хотя и предположительно равных «сферах», поддерживала целую систему институционных практик и обычаев середины века, начиная от разделения труда по половому признаку и заканчивая разделением экономических и политических прав[36].
Эта материальная и институциональная реальность и сама формировала господствующие представления о связи женщин и истории с прогрессом, и формировалась под их воздействием, по мере того как пространственные категории частного и публичного проецировались на временные различия между прошлым и настоящим. Женщина, находившаяся вне дегуманизирующих структур капиталистической экономики, а также строгих требований, накладываемых публичной жизнью, сделалась символом неотчужденной, а значит, и несовременной идентичности. Публиковалось все больше научных, литературных и философских текстов, авторы которых стремились доказать, что женщины по сравнению с мужчинами менее индивидуализированы, наделены меньшим самосознанием и больше укоренены в некоем стихийном единстве. В результате, по мнению целого ряда мыслителей и мыслительниц, оказывалось, что женщины способны войти в современность лишь при условии, что обретут те свойства, которые традиционно классифицируются как мужские.
С другой же стороны, при более внимательном изучении текстов XIX века возникает ощущение, что границы, проведенные между публичным и частным, мужским и женским, современным и антисовременным, были в действительности отнюдь не такими четкими, какими казались. Точнее, их отменяли и проводили заново. Кристин Бюси-Глюксман говорит о «символическом перераспределении отношений между женским и мужским», которое, по ее мнению, наметилось как преобладающая контртенденция городской жизни XIX века[37]. Таким образом, идеологию раздельных сфер подрывало вливание женщин-рабочих на рынок промышленного труда и массового производства, из-за чего многие авторы выражали опасения, что вскоре рабочее пространство станет местом соблазна и разврата ввиду излишне близкого соседства мужчин и женщин. Расширение сферы потребления во второй половине века привело к дальнейшему размыванию границы между публичным и частным: с одной стороны, женщины из среднего класса стали появляться в публичном пространстве универсальных магазинов, а мир товаров массового производства, в свою очередь, вторгся в уютный домашний мирок. Наконец, феминистки и социальные реформаторы конца XIX века бросили существовавшей гендерной иерархии громкий вызов. Заявляя о своих правах на политическое и юридическое равенство с мужчинами, они одновременно ссылались на особый женский моральный авторитет, который оправдывал их деятельность в публичной сфере. Все чаще женские образы выходили на первое место при обсуждении самых острых тревог, опасений и полных надежд фантазий об отличительных чертах «современной эпохи».
В связи с этим некоторые исследователи отмечали значимость образа проститутки в социальном воображаемом XIX века и его символическое место в литературе и искусстве того периода[38]. Проститутка – одновременно и продавщица, и товар – самое яркое олицетворение коммодификации эроса, тревожный пример тех неоднозначных границ, что разделяли экономику и сексуальность, рациональное и иррациональное, инструментальное и эстетическое. Ее тело превратилось в предмет различных интерпретаций; одни современные авторы видели в нем эталон засилья коммерции и повсеместного торжества товарно-денежных отношений, другие же усматривали в нем изображение мрачной пропасти опасной женской сексуальности, связанной с грязью, заразой и разрушением социальной иерархии в современном городе. Проститутка, становившаяся объектом все более пристального государственного регулирования, контроля и надзора, назойливо и наглядно напоминала о потенциальной анонимности женщин в современном городе и об освобождении сексуальности от семейных и общинных уз. Заодно с проституткой актриса тоже иногда воспринималась как «поставщица публичного удовольствия»; использование ею косметики и особых нарядов свидетельствовало об искусственных и коммодифицированных формах современной женской сексуальности[39]. Этот мотив женщины-исполнительницы ролей легко интерпретировался как симптом повсеместного присутствия иллюзии и зрелища, задействованных в порождении современных форм желания. Проститутка и актриса, занимавшие место чуть в стороне от приличного общества, но при этом наглядно воплощавшие типичную для него организующую логику эстетики товара, завораживали культурных критиков XIX века, поглощенных изучением упадочного и искусственного характера современной жизни.
Меняющийся статус женщин в условиях урбанизации и индустриализации также выражался в проведении метафорической связи между женщинами, технологией и массовым производством. Женщин перестали просто противопоставлять рационализирующей логике современности, зато теперь их воспринимали как существ, созданных с ее помощью. Еще одна повторяющаяся тема модерна – образ женщины-машины, например, он рассматривается в романе Филиппа-Огюста Вилье де Лиль-Адана «Будущая Ева»[40]. Как замечает Андреас Хейссен, в этом образе в концентрированном виде воплотились одновременно и зачарованность мощью технологии, и вызываемое ею отвращение. Словно произведение искусства, женщина в век технологического производства оказывается лишена живого духа; иными словами, индустрия и технология помогают развенчать миф о женственности как о последнем оставшемся оплоте спасительной природы. Так современность становится средством, позволяющим лишить женщину природных свойств и, значит, пошатнуть понятие о фундаментальной, богоданной женственности. Однако этот образ женщины как машины можно истолковать и иначе: как упорное подтверждение патриархального желания при помощи технологии повелевать женщиной, выражающегося в фантазиях о послушной женщине-автомате и в мечтах о сотворении человека без участия матери, путем искусственного воспроизводства. В фигуре женщины-как-машины заключена важнейшая неоднозначность (на что она указывает: на бунт или же на подкрепление гендерной иерархии?), которой отмечена и ее самая недавняя реинкарнация в «Манифесте киборгов» Донны Харауэй[41].
Проститутка, актриса, механическая женщина – в таких женских образах материализуются неоднозначные реакции на капитализм и технологии, пронизавшие собой всю культуру XIX века. Этот список легко расширить. Например, ярким символом феминизированной современности в творчестве французских писателей-мужчин стал образ лесбиянки: они изображали ее как олицетворение извращенности и упадка, как пример подвижности и неоднозначности современных форм желания. Как замечает Вальтер Беньямин в своих рассуждениях о Бодлере, лесбиянка обрела статус героини современности из-за того, что, как виделось некоторым, она оспаривала традиционное распределение гендерных ролей, подрывая «естественную» гетеросексуальность и императивы биологического воспроизводства. Лилиан Фадерман и вслед за ней (относительно недавно) Таис Морган исследовали некоторые из проявлений этого культа лесбийского экзотизма, оказавшего воздействие на тексты мужского авангарда XIX века. По замечанию Морган, фигура лесбиянки стала выступать эмблемой изящного беззакония, она позволяла художникам и писателям рассматривать широкий круг удовольствий и характеров, при этом не обязательно бросая вызов традиционным представлениям и мужским привилегиям[42].
Как показывает этот пример, многие господствовавшие изображения современной женственности складывались под влиянием мужской фантазии, и потому нельзя считать, что они точно отражают женский опыт. Но это вовсе не значит, что где-то существовало некое противоположное царство подлинной женственности, которое все еще ждет, когда же его откроют, оставив в покое уже известные изображения и институционную логику современности. Напротив, я надеюсь показать, что ностальгия по подобной не затронутой отчуждением цельности сама порождена современными дуалистическими схемами, в рамках которых женщина мыслилась как некое невыразимое Другое, находящееся вне мужского социального и символического порядка. Вместо того чтобы гнаться за химерой какой-то автономной женственности, я хочу разобраться в некоторых из иных способов, которыми женщины обращались к доминирующим изображениям гендера и современности, оспаривали или переформулировали их, осмысляя собственное место в обществе и истории. Женский опыт нельзя воспринимать как некую заранее данную объективную реальность, существовавшую до ее выражения; он складывается из ряда зачастую противоречивых, хотя и взаимосвязанных течений, которые не просто отражаются, но и формируются в «технологиях гендера» конкретных культур и периодов[43]. Такое понимание истории как разыгрывания подводит к восприятию женственности в ее многочисленных, разнообразных, но определенных проявлениях, которые, в свою очередь, имеют точки пересечения с иными направлениями культурной логики и иерархиями власти. Гендер постоянно пребывает в движении, это идентичность, которая разыгрывается и исполняется по правилам того или иного времени, в соответствии с заданными им социальными ограничениями.
Следовательно, признавать социальную детерминированность женственности не значит отстаивать логику идентичности, согласно которой женский опыт современности можно просто уподобить опыту мужскому. Разумеется, женская жизнь намного сильнее изменилась под воздействием таких характерных процессов современной эпохи, как индустриализация, урбанизация, возникновение нуклеарной семьи, появление новых форм распределения времени и пространства, развитие средств массовой информации. В этом смысле просто не может быть какой-то отдельной сферы женской истории вне преобладающих структур и логики современности. В то же время для женщин все эти изменения имели свои гендерно-специфические особенности, к тому же разнившиеся в зависимости не только от классовой, расовой и сексуальной иерархии (на что внимание обращают чаще всего), но и от различных (и порой пересекающихся) идентичностей и бытовых ролей: потребительниц, матерей, работниц, художниц, любовниц, общественных деятельниц, читательниц и так далее. Эти характерные именно для женщин соприкосновения с современностью обычно игнорируются в культурных и социальных метатеориях, слепых к гендерному изменению исторических процессов. Поэтому такой подход, при котором в фокусе внимания оказались бы тексты, посвященные женщинам и/или созданные женщинами, в результате может дать несколько иные выводы относительно характера и смысла исторических процессов. Те измерения культуры, которые ранее отвергались, упрощались или расценивались не как современные, а как регрессивные: чувства, любовные романы, шоппинг, материнство, мода, – заметно набирают вес, тогда как темы, традиционно занимавшие центральное место в общественно-культурном анализе современности, теряют прежнюю значимость. В результате наше представление о том, что считается важной историей, слегка (но при этом глубоко) меняется и ландшафт современности обретает другие, менее привычные очертания.
Однако критик-феминистка рискует и лишний раз подкрепить гендерные стереотипы, если решит бросить все силы на выявление какой-то отдельной «женской культуры». В XIX веке многие женщины стремились оспорить само это понятие, нарочно нарушая традиционные границы между мужской и женской территорией, либо совершая какие-то политические действия, либо действуя тише и незаметнее. Не менее важно признать присутствие женщин в тех сферах, которые часто считаются исключительно мужской территорией, например в публичной политике или в авангардном искусстве. Присваивая такие традиционно «мужские» дискурсы, женщины помогали выявить потенциальную неустойчивость традиционных гендерных разделений, хотя в их вариантах этих дискурсов нередко обнаруживаются любопытные и соблазнительные отличия. Вместо того чтобы расценивать эти стратегии как патологические признаки попадания женщин под власть вездесущего фаллоцентризма, я хочу исследовать гибридные и зачастую противоречивые идентичности, которые получились в результате. Если гендерная политика играла главную роль в формировании процессов модернизации, то эти самые процессы, в свою очередь, помогали по-новому представлять и переосмыслять собственно гендер.
Модернистская эстетика и женская современностьСреди различных терминов, ассоциируемых с современностью, самыми ходовыми в области литературоведения являются «модерн» и «модернизм». В отличие от чересчур растяжимого понятия «современность» (modernity), модерн(изм) можно соотнести с более точно отмеренным отрезком на шкале исторического времени: по мнению большинства критиков, расцвет литературы и искусства модерна приходится на промежуток между 1890 и 1940 годами (с оговоркой, что отдельные черты модернизма можно найти и в произведениях, созданных раньше или позже указанного периода). Взлет модернизма в континентальной Европе часто связывается с появлением символизма во Франции и эстетизма в Вене рубежа веков, тогда как в Англии и Америке, как принято считать, модернистские тенденции проявились несколько позже – приблизительно в годы Первой мировой войны.
Хотя в литературе модернизм – это обширный и разнородный диапазон стилей, а не какая-то одна школа, все же можно перечислить некоторые его важнейшие опознавательные признаки. Согласно емкой сводке, составленной Юджином Ланном, к ним относятся: эстетическое самолюбование; приемы синхронности, сопоставления и монтажа; парадокс, двусмысленность и неопределенность; дегуманизация предмета изображения[44]. Эти эстетические особенности обычно объясняются кризисом языка, истории и тематики, который сопутствовал рождению XX века и оставил неизгладимый отпечаток на литературе и изобразительном искусстве того периода. Так, Малкольм Брэдбери и Джеймс Макфарлейн отмечают, что модернизм – это
искусство, возникшее в результате распада коллективной действительности и устоявшихся понятий причинности, выросшее на обломках традиционных представлений о цельности индивидуального характера, в условиях языкового хаоса, который обычно возникает, когда дискредитируются общественные понятия о языке и любая реальность оборачивается субъективным вымыслом[45].
Однако в том, что касается общественно-политических последствий модернистских нововведений в сфере литературы и искусства, мнения критиков расходятся значительно шире. В таких европейских странах, как Франция, Германия, Италия и Россия, формальные эксперименты конца XIX – начала XX века часто связывались (и критиками, и самими экспериментаторами) с социальными проблемами: радикальная эстетика теснейшим образом переплеталась с авангардной политикой. Здесь важнейшую роль играло понятие остранения, введенное представителями русской формальной школы ОПОЯЗ: этим словом обозначалась способность литературы выводить читателя из «автоматизма восприятия» и переключать его внимание на материальность языка как набора означающих. В ряде авангардных течений этот остраняющий потенциал позволял художественным новшествам обрести органичную связь с социальными переменами. Искусство модернизма более всего подходило для оспаривания застарелых политических штампов и идеологических догм: оно разбивало миметические иллюзии реалистической и натуралистической традиций и самой своей формой выдвигало на первый план радикальные противоречия и двусмысленности, характерные для современной жизни.
В англо-американском контексте модернизм толковался иначе – что объяснялось хотя бы отчасти тем, что в Англии и Америке сколько-нибудь прочная традиция авангарда отсутствовала, а многие модернисты придерживались более консервативных взглядов и мало интересовались политикой. В результате модернизм часто определялся через его противопоставление общественно-политическим проблемам, критики сосредоточивались на тонкостях модернистских экспериментов, которые предпринимались для защиты идеала самостоятельного, самореферентного произведения искусства. Таким образом, установилось избирательное сродство между зачастую утонченными эстетическими интересами писателей Т. С. Элиота и Эзры Паунда – и течением «Новой критики» с его ярко выраженным формализмом и антиреферентной направленностью как установленной практикой и техникой толкования. Как пишет Марианна Дековен, «триумф модернизма Новой критики привел к тому, что стали выглядеть слишком прямолинейными, банальными и даже грубыми любые попытки говорить о модернистских текстах как о критике культуры XX века – то есть, по существу, подступаться к ним как-то иначе, чем к алтарю языковой и интеллектуальной сложности, пребывающей в поиске трансцендентной формальной цельности»[46]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Montrose L. A. Professing the Renaissance: The Poetics and Politics of Culture // The New Historicism / Ed. H. Aram Veeser. New York, 1989. P. 23. Обсуждение текстуальных измерений изображения истории, см., среди прочих, в: White Н. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore, 1973, и White Н. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. Baltimore, 1978; LaCapra D. History and Criticism. Ithaca, 1985; Gossman L. Between History and Literature. Cambridge, 1990.
2
Маршалл Б. Все твердое растворяется в воздухе. Опыт модерности / Пер. с англ. В. Федюшина, Т. Беляковой. М., 2020. С. 68, 70.
3
Там же. С. 73.
4
См., например: Benjamin J. The Bonds of Love: Psychoanalysis, Feminism, and the Problem of Domination. New York, 1988.
5
Finney G. Women in Modern Drama: Freud, Feminism, and European Theater at the Turn of the Century. Ithaca, 1989. P. 13. См. также: Showalter E. The Female Malady: Women, Madness, and English Culture, 1830–1980. London, 1987.
6
См. также: Redner H. In the Beginning Was the Deed: Reflections on the Passage of Faust. Berkeley, 1982.
7
Kellner D. Critical Theory, Marxism, and Modernity. Baltimore, 1989. P. 91.
8
Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения / Пер. М. Кузнецова. М., СПб., 1997. С. 13.
9
Hewitt A. A Feminine Dialectic of Enlightenment? Horkheimer and Adorno Revisited // New German Critique. 1992. № 56. P. 147.
10
Mills Р. J. Woman, Nature, and Psyche. New Haven, 1987. P. 89.
11
Ibid. P. 192–195.
12
Ruthrof H. The Hidden Telos: Hermeneutics in Critical Rewriting // Semiotica. 1994. 100. № 1. P. 90–91.
13
Эпиграф: Morris М. Things to Do with Shopping Centres // Grafts: Feminist Cultural Criticism / Ed. S. Sheridan. London, 1988. P. 202.
14
Turner B. S. The Rationalization of the Body: Reflections on Modernity and Discipline // Max Weber: Rationality and Modernity / Eds. S. Whimster, S. Lash. London, 1987. P. 223.
15
Frisby D. Fragments of Modernity. Cambridge, 1986. P. 4.
16
Calinescu M. Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism. Durham, 1987. P. 91.
17
Hekman S. J. Gender and Knowledge: Elements of a Postmodern Feminism. Cambridge, 1990. P. 188.
18
Modernism, 1890–1930 / Eds. M. Bradbury, J. McFarlane. Harmondsworth, 1976. P. 41.
19
Маршалл Б. Все твердое растворяется в воздухе.
20
См.: Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / Пер. М. М. Беляева. М., 2003. и Habermas and Modernity / Ed. R. J. Bernstein. Cambridge, 1985.
21
Descombes V. Le Beau Moderne // Modern Language Notes. 1989. Vol. 104. № 4. P. 787–803.
22
Cahoone L. E. The Dilemma of Modernity: Philosophy, Culture, and Anti-Culture. Albany, 1988. P. 1.
23
Здесь я опираюсь на очень полезный материал: Featherstone М. In Pursuit of the Postmodern // Theory, Culture, and Society. 1988. Vol. 5. № 2/3. P. 195–215.
24
См.: Frisby D. Fragments of Modernity; Featherstone М. Postmodernism and the Aestheticization of Everyday Life // Modernity and Identity / Eds. S. Lash, J. Friedman. Oxford, 1992.
25
См., например: Taylor Ch. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge, 1989.
26
Calinescu M. Five Faces of Modernity. P. 23–35.
27
О замешанности западных понятий об истории и современности в наследие империализма см., например: Young R. White Mythologies: Writing History and the West. London, 1990.
28
Landes J. B. Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution. Ithaca, 1988. P. 204.
29
Vattimo G. The End of Modernity: Nihilism and Hermeneutics in a Post-Modern Culture. Baltimore, 1988. P. 4.
30
См., например: Pateman C. The Disorder of Women: Democracy, Feminism, and Political Theory. Stanford, 1989; Feminist Interpretation and Political Theory / Eds. M. Lyndon Stanley, C. Pateman. Cambridge, 1991; Sydie R. A. Natural Women, Cultured Men: A Feminist Perspective on Sociological Theory. Milton Keynes, 1987; Kandal T. R. The Woman Question in Classical Sociological Theory. Miami, 1988.
31
Buck-Morss S. The Flâneur, the Sandwichman, and the Whore: The Politics of Loitering // New German Critique. 1986. № 39. P. 119. Фланер как ключевая фигура появился в недавних феминистских рассуждениях, хотя мнения относительно возможного существования женщины-фланерки расходятся. См.: Wolff J. The Invisible Flâneuse: Women and the Literature of Modernity // Theory, Culture, and Society. 1985. № 2, 3. P. 37–46; Pollock G. Modernity and the Spaces of Femininity // Vision and Difference: Femininity, Feminism and the Histories of Art. New York, 1988; Epstein Nord D. The Urban Peripatetic: Spectator, Streetwalker, Woman Writer // Nineteenth-Century Literature. 1991. Vol. 46. № 3. P. 351–375; Wilson Е. The Invisible Flâneur // New Left Review. 1992. № 191. P. 90–110.