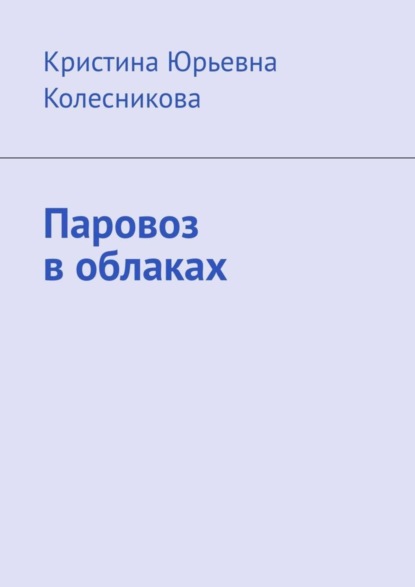- -
- 100%
- +
Съели ремни. Экономно ели, а помощь не шла. И уже столько ослепших было от горного снега и солнца, а ещё больше помороженных, и уже первые умершие. А по ночам со звёздного неба глядело отчаяние. Люди лежали, прижавшись друг к другу, чтобы было теплее и ждали конца, потому что турецкий плен казался страшнее голодной смерти.
Но однажды утром раскатились по горам винтовочные залпы, и мы увидели под горой своих, родных, русских. «За мной, ребята! Ура!» – закричал Трубников, и мы побежали за ним навстречу нашим. Кто как мог. На обмороженных ногах. Турки разваливались в стороны как масло под ножом. Дождались. Вызволили свои.
Меня с твоим отцом отправили в Тифлис на лечение и отдых. Сильно боялись, что ослепнем, но, слава богу, зрение вернулось. В шестнадцатом году опять на фронт. Попали в наш старый полк, а его командиром был тот самый Трубников, только уже подполковник. В апреле взяли Трапезунд, пошли дальше, а в конце лета прилетел нам с Эдуардом турецкий снаряд, один на двоих, но хватило его обоим. Переправили через море в госпиталь в Крым.
А тут революции пошли. Митинги каждый день, кричали до боли гортанной. Ах, как пьянила свобода! Как бредили справедливостью! Сотни лет терпели, и вот, дождались! Одним рывком можно её достичь. Ещё чуть-чуть. Ещё напрячь мозги и станет ясно, как это сделать. Но не получалось. Чем больше говорили ораторы, тем больше путали, напускали туману. Возвращались в казармы с распухшей головой. Кому верить непонятно, все правильно говорят, да почему-то ненавидят друг друга.
А тут, весной, в светлый месяц май приказ – опять на фронт, снова с турками драться. «Кто приказал?» – «Сам Керенский». – «К чёртовой матери вашего Керенского!» – Ах вы, сволочи! Думаете цацкаться с вами будем?!»
И подошла к казармам конница. Всадники в косматых шапках, глаза зверские – изрубят похлеще турок, глазом не моргнут. Силы неравны. Пришлось подчиниться. Но какую злобу затаили! И всё стало ясно: офицерьё проклятое, помещичьи выползки! Разве они позволят мужику землю взять! Ну подождите! Попадём мы с вами в Россию! Теперь не обманете, оружие мы вам, как в пятом году, не сдадим! О, как все ненавидели начальство! Даже мы, немцы, у которых никогда не было крепостного права! Но разве у нас земля справедливо поделена?! Разве у нас нет богатых мироедов и несчастных бедняков? Разве не мучают Ройши таких, как твой отец?!
Но с другой стороны, я чувствовал, что не все офицеры наши враги. Нет, не враг солдатам подполковник Трубников, сидевший с нами в окружении на снежной горе, так же, как мы, съевший свои ремни, бежавший впереди нас на турок!
Мы стояли в обороне, но чувствовали, что готовилось какое-то новое наступление. Временному правительству тоже была нужна победа для самосохранения, хотя бы маленькая. Но лезть под пули, когда революция, когда вот-вот произойдёт долгожданное?! Хоть стреляйте, не пойдём! Туземной конницы на весь фронт не хватит!
И вот тут появился среди нас Рихард Клотц. Он тоже наш, из Екатериненштадта, слесарь с завода братьев Шеферов – нынешнего завода «Коммунист».
– Я знаю, я там практику проходил, – заметил Сашка.
– Он тогда был сухой, костистый; волосы рыжие, кудлатые, глаза жёсткие, глубоко сидящие под рыжими бровями. Он был начитан, политически подкован, от него исходила сила убеждённости. Мы тянулись к нему, потому что, казалось, он всё понимает, всё умеет понятно и просто объяснить. А мы с твоим отцом были его первые друзья по праву земляков и немного кичились этим перед однополчанами.
– Товарищи! – говорил он собравшимся солдатам нашей роты. – Зачем мы здесь? Что мы потеряли в этих знойных долинах и ледяных горах?! Для чего мы умираем десятками тысяч? Для того, чтобы капиталисты набивали карманы, продавая пушки и снаряды.
– Солдаты! Не слушайте его! – возражал командир нашей роты поручик Эрхард. – Нам нужна победа! Осталось немного, одно мощное усилие, и сбудется тысячелетняя мечта русского народа: мы дойдём и овладеем колыбелью православной веры – Константинополем. Англия и Франция подписали меморандум, в котором признали наш суверенитет над черноморскими проливами. Это гарантия безопасности России на сотни лет вперёд! Подумайте, какую великую историческую миссию возложил на нас народ!
– С тем же успехом Англия могла бы признать наш суверенитет над Луной! Правители Антанты такие же враги России, как правители Турции, Австрии и Германии. Они прекрасно знают, что мы никогда не дойдём до проливов, а если дойдём, они вышвырнут нас оттуда. Не для того они оттяпали у России Крым, чтобы через пятьдесят лет подарить нам проливы! Взятие Константинополя – это продолжение войны, но на этот раз со всей Европой!
– Верно ты говоришь! – закричали солдаты. – Не нужен нам никакой Константинополь! Домой!
– Солдаты! Не слушайте изменников! – заикаясь кричал ротный.
– Врёшь! Это не мы, а вы, проливающие реки народной крови, изменники.
И я свой голос вставил в общий хор возмущения:
– Три года дома не были! Старики и женщины надрываются, пашня бурьяном заросла! К чёрту ваш Константинополь! Домой хотим!
– Верно говоришь, земляк! – хлопал меня по плечу Клотц.
В общем, началась у нас анархия. А осенью и Временное правительство закончилось. Ринулась прежняя победоносная Кавказская армия к Чёрному морю, к Трапезунду. Штурмом захватывали корабли: русские, турецкие, торговые, гражданские, военные. Совали в лицо капитану дула пистолетов, наставляли штыки: «Вези в Керчь!»
Нам повезло захватить турецкий пароход, правда с немецкими гравировками «Schifsbesitzer Schwarz»8. Солдатского народа на него набилось видимо-невидимо.
Поплыли. Море зимнее, вода зелёная, пароход перегружен. Не дай Бог… А у борта свалка, толпа солдат накренила судно.
– Братцы! Какой он солдат! По морде видать – полковник! За борт его!
Мы туда с Эдуардом и Клотцом. Смотрим – бьют кого-то. Клотц разбросал бивших, поднял того, кого приняли за полковника. А это наш Трубников. Нос, губы разбиты в кровь, глаза налиты ненавистью. Солдаты рвутся к нему, жаждут расправы. Я закричал:
– Стойте! Это подполковник Трубников! Он наш!
А он:
– Какой я ваш?! Быдло! Ненавижу! А! Это ты, Клотц, со своими немцами! Предатели, немецкие агенты! Продали Россию, как ваш Ленин! Как я вас раньше не раскусил?! Жалко, что не перестрелял вас!
– Не надо так, господин подполковник! – сказал Клотц, и глаза его стали наливаться кровью. – Угомонись!
– Сейчас ты получишь свою награду, Иуда! – сказал Трубников и, как нам показалось, стал запускать руку за пазуху.
Клотц бросился к нему, обхватил ниже пояса и в одно мгновение перебросил через борт, только сапоги круг в воздухе прочертили.
– Рихард! Зачем?! Человек ведь!
– Ты что?! Хотел бы, чтобы он меня застрелил?! Жалельщик! – брови рыжие, глаза красные, безумные, навыкате.
Господи, что творится! Душа в смятении! Подошёл твой отец, положил мне руку на плечо, отвёл в сторону, сказал, понизив голос, чтобы никто не слышал:
– Чёрт рыжий! Тот ещё кровопийца бешенный! Говорят, он и нашего ротного Эрхарда штыком заколол.
Прибыли в Керчь. Город запружен народом: несчастные армяне – беженцы из Турции, солдаты чёрт знает каких фронтов. Все куда-то бегут, чего-то ищут, кричат, кого-то грабят…
Подошёл Клотц с толпой солдат и матросов:
– Земляки! Айда в Питер настоящую революцию делать!
– Нет, – ответили мы с твоим отцом, – поедем домой. Нас жёны и дети ждут.
– Ну поезжайте, а мы пойдём устанавливать царство всемирной справедливости! Вы уж тогда не обижайтесь, если вам в нём места не останется!
На том и расстались.
Клотц вернулся в Екатериненштадт в апреле восемнадцатого года уполномоченным по хлебозаготовкам. Приехал к нам в Паульское на автомобиле с откидным верхом – он всегда так ездил. А я в то время был секретарём сельского совета, потому что грамотный и фронтовик.
Вбежал он в Совет, как буря: в шинели, на боку маузер:
– А, фронтовой друг! Здорово, камрад! – даже обнял меня. – Как у вас с хлебом?
– Неважно. За войну запустили пашню, посеяли мало. У каждого впритык.
– Ладно, ладно, не прибедняйтесь! Собирай народ!
Послал я глашатаев, в колокол на церкви ударили. Через час собралось почти всё село: кто пешком прибежал, кто на коне прискакал, кто на подводе приехал.
Клотц вскочил на телегу какого-то мужика, снял фуражку, крикнул громко как мог:
– Мужики! – постоял, дожидаясь тишины. – Мужики, я свой, здешний, из Екатериненштада. Зовут меня Рихард Клотц. Рабочий с завода Шеферов. Два года был на войне. В одной роте воевали с вашим секретарём Георгом Юстусом. Он меня знает, камрадами были. Сейчас приехал из Петрограда. Меня прислал к вам Ленин!
Будто разом толпа вздохнула:
– Как! Не уж-то сам Ленин?!
– Да, мужики, сам Ленин! С великой просьбой… Мужики…
– Ну что, мужики? Знаем, что мужики. Чего тебе надо? Говори скорей, зачем тебя Ленин прислал, с какой такой просьбой, – крикнул из первого ряда Иван Файт.
– Мужики! Плохо в Петрограде, в Москве тоже плохо. А в Петрограде… даже сказать вам не могу! Что я видел – сердце кровью обливается. Дети с голоду умирают. Бабы… Рабочие на заводах пухнут. Хлеба совсем нету. Последние недели вместо хлеба дают семечки. Горсть семечек на человека. Подумайте, можно ли выжить на семечках?! Мёртвые на улицах лежат. Надо помочь, мужики!
Долго молчали.
– Мы бы рады, – сказал старик Кунц, сверкая гладким, как голыш черепом, – но откуда же взять? Сами бедствуем. Ну может, самую малость могли бы…
– Постой, Кунц! – вперёд выступил Филипп Дорн, мужик, с широкой рыжей бородой, не самый бедный из сельчан. – Вот ты, товарищ Клотц, говоришь, что надо помочь. А мы при чём?
Клотц пристально посмотрел ему в лицо и сказал, как мог спокойно:
– Вы притом, что вы тоже граждане России, что вы, наконец, христиане. Разве Христос не учил вас поступать с ближним, как вы бы хотели, чтоб с вами поступали? Если бы ваши дети умирали, ваши жёны пухли с голоду, разве вы не желали бы, чтобы их накормили? Христос прямо велел вам накормить голодного, напоить страждущего! Что ж вы, христиане, не слушаетесь его?
– Ишь, безбожник, Христа вспомнил! – издевательски улыбаясь сказал Дорн. – Заливай, заливай – не обдуришь!
И вдруг лютая злоба перекосила его лицо:
– Никому ничего мы не должны! На то власть есть, чтоб кормить своих городских! А у нас хлеба нет! В прошлом году недород был, сами голодаем. Верно?
– Верно! – отозвались в толпе. – Откуда хлеб? Одни бабы остались. Полей и половину не засеяли. Свои детишки лебеду едят да по суслики ходят!
– Врёте! – рявкнул Клотц. – Есть у вас хлеб! Ой, мужики! Не становитесь Советской власти поперёк пути! Она меня послала говорить с вами по-людски, да только, вижу я, по-людски вы не понимаете. Тогда и Советская власть к вам не по-людски! Она с вами нянчиться, как Временное правительство, не будет. Кто уклоняется от продразвёрстки – враг народа! У вас в руках самое страшное оружие – голод! Вы им больше людей убиваете, чем все враги трудового народа вместе взятые! Так Ленин сказал!
– А нам твой Ленин не указ!
– Ленин тебе не указ?!
Клотц спрыгнул с телеги и подошёл к Дорну:
– Слушай, ты!
– Ну что, что я? Чего так смотришь?
– А то, что, сдаётся, контра ты!
– Какая контра? Я и слов таких не знаю, и тебя не знаю. Детей я с тобой не крестил и свиней не пас!
Клотц придвинулся совсем близко, грозно навис над струхнувшим мужиком, ноздри раздувались широко и часто, и глаза стали бешенными, беспощадными, как тогда, когда убил Трубникова. И рука уже потянулась к маузеру.
Я бросился между ним и Дорном:
– Рихард, Рихард! Народ у нас ещё политически неграмотный, в текущем моменте разбирается плохо. Мы подумаем, дадим хлеба. Как не дать! Ведь своим же братьям рабочим. Верно, мужики?!
Мужики потупились:
– Ну, может… Пуд, другой…
– Пуд, другой сверх развёрстки! Кто не сдаст, расстреляю! Как собак расстреляю! – сказал Клотц, отходя от Дорна. – По совести расстреляю за мёртвых детей, что валяются на улицах Петрограда. Это вы их убили!!!
После схода я ему сказал по-товарищески, как старому знакомому:
– Рихард, зачем ты так грубо?! Ты же против нас настраиваешь. Нельзя так!
Он в ответ:
– А как можно? Как ты? Я давно заметил, ещё с Трапезунда: ненадёжный ты товарищ. Слюнтяй, размазня! Не ты за собой ведёшь массу, а сам плетёшься у неё в хвосте! Я думал, ты мне, Георг, будешь помощником, оказалось, палки в колёса суёшь! Пошёл вон из Совета! Пиши заявление.
– Какое заявление?
– Я тебе продиктую. Пиши: «Работая в Совете села Павловка, я понял, что из-за своей мягкотелости и безволия не соответствую требованиям момента, в связи с чем прошу освободить меня от должности секретаря Совета, и отпустить хозяйствовать как прежде в своё единоличество». Всё! Дату и подпись! А теперь катись!
Вот так у нас состоялось знакомство мужиков-хлебопашцев с Клотцом.
А в двадцатом году меня с твоим отцом призвали в Красную Армию на войну с Польшей. Попали мы в Первую Конную Армию Будённого. До Варшавы не дошли пятнадцать километров. Мы были в арьергарде, может это и спасло. В последнюю ночь мы вырвались из окружения: за нами гнались польские кавалеристы, с флангов мели пулемёты, стараясь отрезать нас от своих. Деваться было некуда – только через огонь. Вокруг нас падали лошади, люди слетали на землю под копыта, крики раненых, предсмертное ржание коней. Нам повезло, пули нас не тронули, мы вырвались. Потом нас бросили против Врангеля. Много чего было тяжёлого, нехорошего, но было и героическое. Ну ты и сам это знаешь.
Мы вернулись домой в начале двадцать первого года. Меня опять выбрали председателем сельсовета. Я отказывался, но мужики меня убедили. Сказали: «Кто как не ты! Будёновец, орденоносец, никакой Клотц не посмеет на тебя хвост поднять!» Я согласился. И тут появились у нас банды. Каких только не было: Фомина и Вакулина, в Урбахе наш Фёдор Мартенс поднял мужиков. Красный командир Колесов, награждённый тремя орденами Красного Знамени, тоже выступил против продразвёрстки и за Советы без коммунистов, собрал отряд и пошёл захватывать сёла одно за другим. Каждый день приходили сообщения об убийстве коммунистов.
В Поволжье уже был голод, люди умирали. Какая продразвёрстка?! Но план никто не отменял! И вот ворвался в Паульское Клотц. Автомобиль с откидным верхом. На заднем сидении пулемёт, и он сам за пулемётом. Очередью по домам веером – куда попадёт!
Остановился перед Советом: двери затрещали под его ударами. Ворвался. Я не успел подняться ему навстречу, а он:
– Предатель, саботажник, контра!
В руке пистолет, и с порога давай стрелять в меня!
Одна пуля попала мне в горло. Не могу описать тебе, что я почувствовал. И тебе желаю никогда не узнать, что это, когда в тебя попадает пуля. Я упал, захлебнулся собственной кровью и потерял сознание. Последнее, что я помню, это его блестящие сапоги перед моими глазами. Почему-то Клотц не стал меня добивать, а даже, напротив, велел отвезти в больницу к Грасмику. Знаешь кто это?
– Ещё бы! Лучший хирург АССР немцев Поволжья.
– Да. И он вытащил меня с того света. Сделал операцию, я долго болтался между жизнью и смертью, и всё же выжил. Но от клотцевой пули остался этот скрипучий придушенный голос. Выйдя из больницы, я решил не искушать судьбу и уехал подальше от этих мест. А сейчас… Ну что? Хватит бояться. Вот приехал с отцом проститься, сестру повидать, племянницу Алису. Я смотрю, любит она тебя. Смотри же… Не обижай её. А что касается Клотца, меня, твоего отца… Тебе надо помнить, что гражданская война – это ужасный кровавый клубок. Чистыми из него никто не выбирается. Всю кровь, все преступления и грехи мы берём на себя. Вы чисты. Стройте счастливую жизнь! Построите – этим и наши грехи оправдаете.
– Дядя Жорж! А ведь Клотц другими словами, но сказал вчера то же самое.
– Прощай, Александр! Завтра я уезжаю. А Алисе скажу, она придёт к тебе.
Последний спектакль
Вечером у Дома культуры завода «Коммунист» собрались марксштадтцы. Самодеятельный театр давал последний спектакль в старом составе. На немецком языке играли пьесу Шиллера «Коварство и любовь».
Александр Майер играл Фердинанда, его отца – президента фон Вальтера – секретарь Асмус, Алиса играла Луизу, её отца музыканта Миллера – руководитель их театра Генрих Браун, его жены – Фрида Гюнтер, роль негодяя Вурма исполнял Костя Винтерголлер.
– Как много народу! – сказала Алиса.
– Люди такое пережили! Сейчас ожили. У каждого душа требует отдыха. Хочется красоты. Наш театр её даёт. Мы врачуем усталые души.
– Дедушка ворчит. Ему не нравится, что мы играем в бывшей лютеранской кирхе.
– Его можно понять. Мои мать и отец тоже твердокаменные верующие. Но, видишь, как много людей пришло на спектакль! Значит это им надо.
– Я почему-то волнуюсь.
– Я тоже. Но, если волнуемся, значит сыграем хорошо.
Подбежала Фрида Гюнтер:
– Ну что, дочка, пора гримироваться. Ты и так сойдёшь, а мне надо успеть состариться лет на тридцать! Ненавижу гримироваться! Сашка, отойдём, я тебе что-то скажу.
Она потащила его за угол здания.
– Сашка, смотри, – никому, никому, что я тебе сейчас скажу!
– Что такое ты можешь мне сказать?!
– Пообещай, что не скажешь!
– Ну обещаю.
– Клотца арестовали!
– Как?! Ты что! Не может быть! Клотца?!
– Тихо! Сегодня ночью. Пришёл домой с нашего выпускного, а там его уже ждали, а кто – сам знаешь
– За что?
– Откуда я знаю! Но что арестовали – это точно. Ну пойдём, пойдём ко всем. Смотри же, не подавай виду.
– Что она тебе сказала? – спросила Алиса, когда стремительная, как ветер, Фрида скрылась за дверями.
– Да так…
– Что так? У тебя от меня тайны?
– Алиса, ну что ты!
– Саша! Какие у тебя могут быть тайны, которые мне не положено знать?
– Алиса! Я обещал молчать.
– Эх ты! А ещё говорил, что любишь меня и веришь, как самому себе! Ведь я тебя не выдам. Никто не узнает, что ты мне сказал.
– Алиса! Если никто не узнает, что я нарушил своё слово, разве это значит, что я его не нарушил?! Не забывай, что я играю благородного Фердинанда! Если я перед спектаклем сделаю подлость, роль мне не удастся.
– Какая же это подлость, доверить мне свою тайну?! Ты же знаешь, я жутко любопытна! И дело не в любопытстве, а в том, что ты мне не веришь.
– Алиса! Неужели ты поссоришься со мной из-за этого пустяка?
– Не знаю. Оставим это! Пойдём. Пора.
– Пойдём. Кстати, перед тем, как сказать: «Матушка, батюшка, почему мне вдруг страшно стало?» не забудь побледнеть как смерть.
Алиса не ответила на его шутку.
Спектакль прошёл с большим успехом. Зрители аплодировали и шумели минут двадцать. На глазах многих женщин блестели слёзы.
Алиса играла вдохновенно. Ей досталась бóльшая часть восторгов. К её игре, к её красоте, юности, свежести ещё не привыкли и только открывали их для себя. И когда она говорила на сцене, что ей шестнадцать лет, никто не усмехался понимающе (что уж! ведь это пьеса – мы понимаем), а по-хорошему завидовали – Алисе действительно было шестнадцать.
– Ну как я сыграла? – спросила она, когда счастливая выходила с Майером из Дома культуры.
– Ты сыграла лучше всех! Мне показалось, что ты даже несколько раз весьма кстати побледнела.
– Это благодаря твоим наставлениям. Ах, как хорошо! Я счастлива. Спасибо тебе, что привёл меня в этот театр! Как давно это было!
– Полгода назад.
– Правда?
– Да. Ты в нашем театре всего полгода! Но играешь прекрасно! Я получил большое удовольствие. Жаль, что это мой последний спектакль, а ты можешь играть ещё два-три года, пока не окончишь училище.
– А может я поеду после педучилища в Москву и выучусь на артистку!
– А как же я? Я не хочу в Москву.
– Тогда не поеду в Москву. Театры есть не только в Москве. А ты не хочешь стать артистом?
– Нет, не хочу.
– Почему?
– Потому что мне нравится быть инженером. Театр – это увлечение, отдых от основной работы. Если бы я играл каждый день, то непременно бы свихнулся.
– Почему? – засмеялась Алиса.
– Потому что жизнь – одно, а театр другое. Я сегодня играл эту пьесу в десятый раз. И в первый раз у меня было ощущение, что я играю то, чего никогда не бывает в жизни. Или бывает, но не так. А какая напыщенность, какое самомнение: «И эти мелкие души исчезнут в исполинском подвиге моей любви»!
– Я с тобой не согласна! Театр – это красиво! Подумай, театр позволяет жить не одной, а многими жизнями. Сегодня я вдруг ощутила себя не Алисой Вебер, а Луизой Миллер, почувствовать то, что никогда не почувствую в жизни.
– Да как же можно чувствовать в наше время такое! Я говорю про своего Фердинанда! Убить любимую девушку и при этом считать себя благородным человеком! Алиса! Я с трудом выговорил свою реплику: «Да что же он потеряет? Разве может она осчастливить отца, если священнейшие чувства любви были для нее лишь игрушками? Нет, нет! и меня еще следует благодарить, что я раздавлю ехидну, пока она не успела ужалить и отца!» Отец должен благодарить этого дурака за то, что тот убил его дочь! А дочь виновата лишь в том, что полюбила другого!
– Я согласна. Дикие понятия о чести были у немецкой знати двести лет назад! Но ведь Шиллер – это классика. Я верила каждому слову, что произносила. Я страдала так, будто всё происходит со мной.
– Конечно. Многие сегодня действительно плакали в зале. Заставить людей чувствовать, как ты, плакать, смеяться, как ты – это и есть искусство, в этом сила художника, и в этом умении Шиллер велик. Соглашусь с тобой, что театр – это прекрасно, но театр – это эрзацжизнь, прекраснее – настоящая жизнь.
– Александр, а ты смог бы убить меня?
– Ты что такое спрашиваешь?! Нет, конечно!
– Ну а если бы я тебя разлюбила?
– Что за вздор!
– Ну представь, представь! Смог бы ты меня убить?
– И представлять не хочу! Не убью я тебя никогда, и пальцем не трону! Ты женщина! Женщина – это святыня! Ударивший женщину достоин презрения! А тебе почему такие мысли приходят?! Уж не собираешься ли ты меня разлюбить?! С каким-нибудь негодяем Вурмом?
– Нет, Александр! Мне сегодня так хорошо! И что первый курс педучилища окончила, и что в спектакле сыграла, что тебя люблю, и что никого мне больше не надо. Я тебя никогда, никогда не разлюблю.
– Алиса! Я хочу поцеловать тебя!
– В чём же дело? Целуй! Ночь. Никто не увидит.
Они остановились посреди замершей во сне улицы и стали целоваться.
– Алиса…
– Саша…
– Ты не сердишься, что я не сказал тебе…
– Наоборот… Никогда, никогда не делай ради меня того, что тебе противно.
– Как хорошо, что ты меня понимаешь!
– Я постараюсь всегда понимать тебя. Но у меня бывают такие вспышки. Я очень обидчива, но быстро отхожу.
– Алиса, дядя Жорж уехал?
– Не знаю. Он собирался уехать вечером. Мы попрощались, когда я пошла на спектакль.
– Значит дедушка один?
– Наверное.
– Можно, я зайду к тебе?
– Не надо. Мне шестнадцать. У нас всё впереди.
– Ты не поняла. Просто я через неделю уеду в Л… на работу, и мне хочется побыть с тобой.
– Мы ещё побудем. Я буду тебя ждать и обязательно выйду за тебя, когда стану совершеннолетней.
– Тогда до завтра?
– До завтра.
– Я приду к тебе.
– Приходи.
Алиса зашла в калитку, Александр стоял и слушал, как хлопнула входная дверь. Вспыхнул свет в окне, выходящем во двор. Майер вздохнул и пошёл домой.
– Сашааа! Сашааа! – он вздрогнул от отчаянного крика и бросился назад.
Алиса выбегала со двора.
– Алиса! Что случилось?
– Сашенька! Дядю Жоржа забрали!
– Как?! За что?
– Не знааюю! Дедушка сказааал. Он еле живой. Плачет.
– Когда арестовали?
– Два часа назад. Он как раз собирался идти на пароход, чтобы плыть в Саратов. Саша! Что делать?!
– Родители знают?
– Нет, конечно!
– Пойдём в милицию, узнаем за что и где он.
– Пойдёём! – рыдала Алиса.
– Алиса, успокойся. Тут какая-то ошибка. Разберутся. Дядя Жорж невиновен. Он мне сегодня утром всё рассказал о своей жизни. Он верный советский человек. Ничего не бойся. Пойдём.
– Подожди, я скажу дедушке, а то он с ума сойдёт, если и я исчезну.
И вот они идут по ночным улицам Марксштадта. Белеет северный край неба, воздух будто застыл. Кругом тишина и покой – только не в их душах.
– Саш, ты не боишься? Я боюсь.
– А что нам бояться?
– Милиция всё же…
А вот и таинственное здание, в которое все боятся попадать. Сашка открыл дверь. В вестибюле их встретил удивлённый милиционер:
– Вам чего, молодые люди?
– Вы арестовали Георга Юстуса, – сказал Майер, – мы хотели бы узнать за что арестовали, и где он находится.