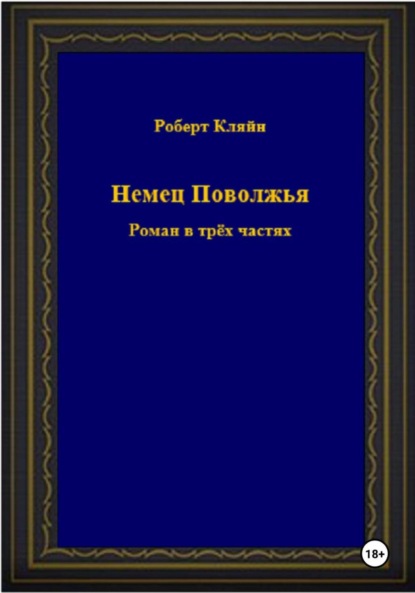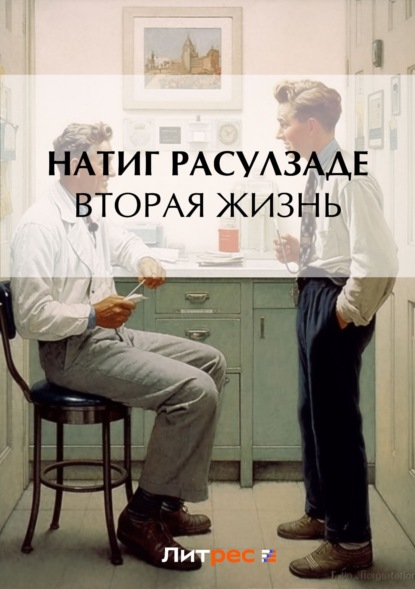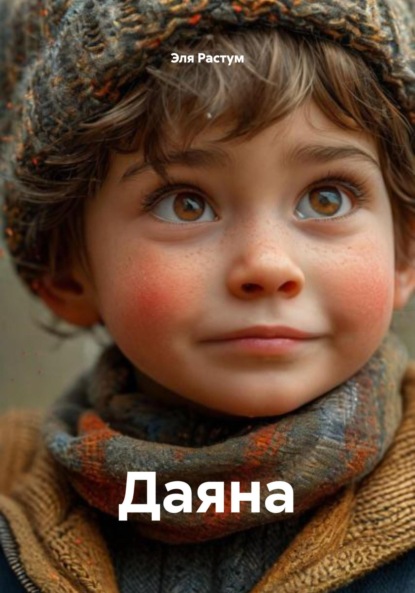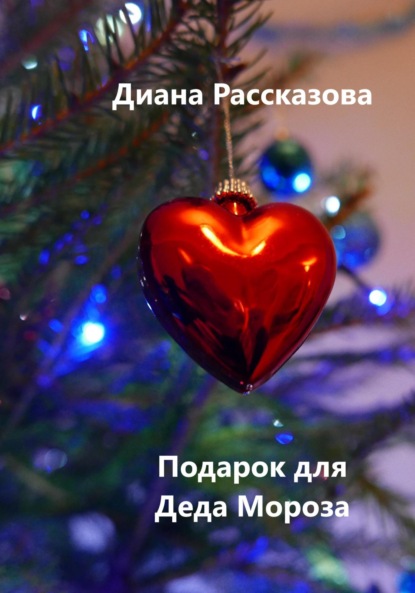- -
- 100%
- +
– Георг Юстус? – спросил милиционер. – Да, есть такой. Он вам кто?
– Он мой дядя, – выкрикнула Алиса.
– Скажите, за что его арестовали? – стараясь быть спокойным, сказал Сашка.
– Этого я вам сказать не могу. Я здесь всего лишь дежурный. Приходите завтра, а лучше вообще не приходите. Раз арестовали, значит есть за что.
– Но он не виноват, – опять сорвалась на крик Алиса.
– Ну это как посмотреть. Кто бы подумал, что Клотц троцкист и враг народа, а вот поди ж ты!
– Как Клотц?! – Алиса посмотрела на Сашку.
– А вы разве ещё не знаете? Ваш дядя для того и приехал сюда, чтобы установить связь с ним и его ячейкой. Ведь они ещё с Первой мировой войны знакомы, и в Гражданскую войну были тесно связаны друг с другом.
– Но Клотц стрелял в моего дядю и чуть не убил его!
– Девушка, идите домой! Мы разберёмся кто с кем был связан, и кто кого хотел убить. И мой вам хороший совет: не мельтешите, не навлекайте на себя подозрений, а то и к вам, и к вашим родителям могут возникнуть вопросы. Ведь вы не могли не знать, зачем приезжал ваш дядя.
– Он приезжал, чтобы повидать своего отца, моего дедушку.
– Ну – это ваша версия. Могут быть и другие! Идите, идите! Вы здесь сегодня ночью ничего не добьётесь!
И Сашка с Алисой пошли домой. Алиса тихо плакала, а потом сказала:
– Так вот что сообщила тебе Фридка! Что Клотца арестовали.
Сашка кивнул.
– Что же будет, что же будет? Мать ещё не знает. И отец. Спят себе спокойно. Саша! Меньше часа назад я не знала, что делать со своим счастьем, а сейчас не знаю, что делать со своим горем!
На следующий день приехала мать Алисы. Два дня ходили они в НКВД, но ничего не узнали о Георге Юстусе, а на третий день Сашка Майер уехал по распределению в Л…
Эмилия Фёдоровна
Село Л… насчитывало около тысячи человек населения и не было крупным населённым пунктом по меркам АССР немцев Поволжья, в которой были сёла с тремя, четырьмя и даже пятью тысячами человек.
Но Майеру, заранее приехавшему на своё первое место работы, оно понравилось.
Дома в нём были добротные, в основном деревянные, крытые железом; наличники и ставни окон в них были свежевыкрашены, карнизы украшала ажурная резьба, стёкла были промыты, за ними белели накрахмаленные занавески с кружевами, массивные дворовые ворота стояли прямо и прочно держались на своих столбах.
Село окружали фруктовые сады, в которых наливались соком яблоки, груши, сливы, а вишни, как огоньки на новогодней ёлке, уже горели многочисленными красными огоньками в густой зелени.
Сашка попросил шофёра привезшей его полуторки остановиться у сельсовета, чтобы до окончания рабочего дня решить квартирный вопрос. Председатель дал ему адрес Эмилии Фёдоровны Эймер, сказав:
– Она женщина одинокая, муж и дети её умерли, она страдает от одиночества и будет рада постояльцу.
Тётя Миля (по-немецки Миле-танте) действительно обрадовалась Майеру:
– Да, Александр, живи сколько хочешь! Неделю назад от меня уехал врач – очень хороший человек! Его зовут Антон – Антон Петрович. Простилась как с родным. Веришь ли, после него такая скука! Днём ничего – я ведь ещё работаю, а ночью одной сильно страшно.
Она впустила его во двор, в конце которого стоял пригон, раззявивший тёмный проём двери, занавешенный белёсой сеткой мельтешащей мухоты. Оттуда доносилась какофония из кудахтанья кур и свиного хрюканья. Перпендикулярно пригону чуть не на полдвора растянулся амбар, поперёк двери которого чернела железная накладка с навесным замком. Против крыльца дома, как у большинства поволжских немцев, стояла побеленная извёсткой летняя кухня, распахнутой дверью, как собака открытой пастью, втягивавшая в себя наружный воздух. Эмилия Фёдоровна тут же сообщила, что она здесь только варит, но не ест из-за мух и несносной жары.
– Проходи, Александр, будь как дома! – ворковала она, вводя его в дом. – Вот твоя комната: кровать, шкаф для одежды. Живи с богом. Тебе хорошо, и мне спокойно. Платы я с тебя брать не буду. Оставь свой чемодан, да пойдём на кухню, поужинаем – мне в шесть часов надо на дойку. Ты, наверное, знаешь, у нас здесь образцовая молочно-товарная ферма.
– Вы дояркой работаете?
– Да. Я передовая доярка. Четыре тысячи в год надаиваю. Но и коровы у нас хорошие. Черно-пёстрая голландская порода. Ты садись к столу, я сейчас принесу чайник.
Тёте Миле было чуть больше пятидесяти лет, но седина уже преобладала в её поредевших волосах, заплетённых в косичку с мышиный хвостик, кое-как закреплённую на затылке. Невысокая, кареглазая, с правильными тонкими чертами лица, чёрными бровками, аккуратными губками и острым носиком, в молодости она, наверное, была красивой женщиной, но теперь исхудала, даже высохла, и на улыбчивом от природы лице её пролегли горькие морщины.
– Я сегодня и не варила ничего, – виновато сказала Эмилия Федоровна, вернувшись с чайником. – Жалко трудов для одной себя. Да вот у меня есть огурцы, помидоры, яйца, хлеб – бери, что хочешь. А уж завтра начну варить. Я Антону-то – Антону Петровичу, каждый день варила. Твоя мать что варит?
– Вы обо мне не беспокойтесь: что приготовите, то и съем. Меня мать в детстве приучила не привередничать. А потом голод… Кто голодал, всякой еде рад.
– Ох, Александр! Ты ешь, ешь. Огурцов и помидоров у меня много. Да и хлеба теперь хватает. В прошлом году я много на трудодни заработала.
После ужина тётя Миля ушла на ферму доить коров, сказав:
– Александр, вечером из стада придёт моя корова Суззи, ты запусти её и привяжи на помосте к столбу с верёвкой.
Оставшись один, Сашка внимательно осмотрел жилище своей хозяйки.
На кухне в переднем углу возвышалась крестьянская печь с прикрытым заслонкой большим горнилом, у окна, выходившем на двор, стоял обеденный стол, против него старинный буфет с посудой, на котором тикали часы в виде мельницы, крылья которой ровно в шесть часов сделали несколько оборотов под мелодию о милом Августине.
В горнице с выходящими на улицу двумя окнами стояла кровать Эмилии Фёдоровны, комод и старинный сундук; на одной стене над кроватью висел старинный ковёр с изображением какого-то альпийского пейзажа, а на другой, в углу против изголовья качался маятник настенных часов, тоже мелодично пробивших шесть часов, но чуть позже кухонных; над комодом разместились семейные фотографии; с портрета в простенке между окнами, отечески щурясь, улыбался Михаил Иванович Калинин. К одному из окон был приставлен круглый стол, покрытый чистой белой скатертью, на котором, впрочем, ничего не было кроме стопки газеты «Роте фане»9.
Сашка принялся рассматривать фотографии, размещённые в застеклённой рамке.
На одной, выполненной на картонной основе, он увидел молодую женщину, большими глазами весело и доверчиво смотревшую в камеру. Густые тёмно-русые волосы были зачёсаны назад, красиво обрамляя круглое белое лицо с прямым чуть заострённым носом и чувственными пухлыми губами. На ней была белая кофточка с выбитыми узорами и стоячим воротником и чёрная юбка до пола. Очень трудно было узнать в ней нынешнюю тётю Милю.
Одной рукой она обнимала двух- или трёхлетнего ребёнка, стоявшего рядом с ней на фотографической тумбе, покрытой мудрёными барельефами. На малыше были длинная до колен рубашка с ремешком, малюсенькие ботиночки и вязанные полосатые чулочки. С полуоткрытым ротиком и удивлённо распахнутыми глазами смотрел он с фотографии на незнакомый мир.

С полуоткрытым ротиком и удивлённо распахнутыми глазами смотрел он с фотографии на незнакомый мир.
Сашка вспомнил, что председатель сельсовета сказал ему, что муж и дети Эмилии Фёдоровны умерли, и мысль, что этого ребёнка уже нет на белом свете, неожиданно сдавило его сердце.
На соседней фотографии были изображены два солдата царской армии в сапогах гармошкой, в гимнастёрках и фуражках с непонятной кокардой, с притороченными к поясам патронташами и приставленными «к ноге» винтовками с длинными штыками. На погонах ясно читалась надпись «557 СД». Один был круглолицый, безусый, из-под его фуражки выбивался светлый чуб. Другой был смуглый с чёрными, закрученными вверх усами. Под изображением были выдавлены вензель «Л.Бернштейн» и подпись «Художественная фотография».
На другой фотографии того же Л.Бернштейна черноусый сидел уже на лавочке вместе с матросом в бескозырке с надписью «Березань» на околыше, и Сашка понял, что черноусый – это покойный муж тёти Мили.
Остальные фотографии были новее и выполнены на фотографической бумаге. На них тётя Миля с мужем были уже заметно старее, и рядом с ними сидели люди различных возрастов – от стариков до маленьких детей.
Затем, посмотрев последний номер газеты, Сашка побродил по двору, посидел на крылечке, дожидаясь прихода стада.
Солнце, успевшее превратиться из слепящего и обжигающего иглистого ёжика в гладкий оранжевый колобок, спускалось за тёмные сады. Несмотря на это, по-прежнему было душно: раскалённая за день земля как печь отдавала жар. Над травой, покрывавшей двор, клубились комары, прогудел припозднившийся шмель. Куры усаживались на нашест. Недовольно хрюкала в пригоне несытая свинья. Над двором кружился ястребок с красно-коричневой шеей. Где-то за селом клубами поднимался в небо рёв «Сталинца» с металлическим призвоном.
Наконец по улице посыпался топот копыт, защёлкал бич пастуха, а за калиткой послышался тяжёлый вздох и утробный мык.
Открыв калитку, Майер увидел невысокую черно-пеструю корову, которая вошла, подозрительно косясь на него: откуда ты, мол, взялся и не обидишь ли меня. Сашка проследовал за ней, накинул ей на рога свисавшую со столба верёвочную петлю. Вслед за коровой прилетели оводы с красными глазками, прицеливаясь куда бы в неё впиться. Суззи, выпучив глаза и вздрагивая от каждого укуса, похлёстывала себя хвостом, мотала головой и била по брюху ногами.
– Ну ты уж сама с ними разбирайся, – сказал корове Александр и пошёл ждать квартирную хозяйку.
Она пришла, когда солнца уже не было, и на небе горел оранжево-красный закат.
Помыв корове вымя, Эмилия Фёдоровна села на низенькую доильную скамеечку и принялась за дойку, а Сашка сломанной с берёзы веткой, стал отгонять оводов.
– Твои родители держат корову? – спросила тётя Миля.
– Когда мы жили в Розенгейме, то держали, а сейчас нет. Марксштадт ведь город, там мало кто держит коров. Разве только на окраине.
– У нас с мужем всегда было много коров: и по три, и по четыре до колхоза, а когда я осталась одна, то мне и коровы стали не нужны. Но в прошлом году приехал Антон Петрович. Надо же что-то есть мужику. А он любил молоко. Каждый вечер выпивал по кружке. Ну и галушки, кребли. На воде они не получаются – нужны сметана и простокваша. Вот и купила Суззи. Потом завела поросёнка. Ему тоже молоко нужно. Когда Антон уехал, я хотела её продавать, но теперь… Повременю уж. Слышишь, Кнакс визжит? Я ему всегда наливала в корыто немного простокваши, а сегодня дала болтушку на воде, так он уже недоволен. Всё они животные понимают, даже свиньи.
– Странное у него имя Кнакс, – сказал, смеясь, Майер.
– Кнакс это ведь… Не знаю, как сказать…
– У нас в Розенгейме это… Одним словом – «кердык».
– У нас тоже. Так вот. Рано весной, когда Кнакс был ещё маленьким поросёнком и не имел имени, я пошла почистить его клетку; он сумел выскочить из пригона и стал приставать к Суззи. Она лягнула его и перебила переднюю ногу. Я хотела его зарезать, чтобы не подох без пользы, и сказала Антону: «Поросёнок hat sich den Knacks geholt10. Надо его быстрее резать, зови соседа!». Он сильно смеялся, потому что первый раз слышал такое слово. Потом сделал шинку, пошил из кожи сапожок, надел на поросячью ногу и сказал: «Давайте звать его Кнакс или Кнаксик». Я согласилась. Поросёнок выздоровел, но кличка осталась. С тех пор все смеются, когда узнают, что его зовут Кнакс.
Тётя Миля закончила доить, Сашка взял подойник с шапкой молочной пены выше краёв и, стараясь не расплескать, занёс в дом, на кухню.
– Спасибо, Александр! – сказала хозяйка. – Ты как Антон Петрович. В тот день, как я привела Суззи и первый раз села подоить её, он подошёл отгонять мух и оводов, а потом отнёс молоко, хотя я его не просила. И ты сегодня поступил так же.
В доме было совсем темно. Эмилия Фёдоровна включила свет:
– Садись, Александр, поешь. Когда-то мои дети очень любили съесть на ночь молока с хлебом.
Она процедила молоко через вдвое сложенную марлю и налила Сашке в пол-литровую кружку с синим ободком и сбитой на боку эмалью.
– Ты из какого села?
– Мои родители из Розенгейма. А сейчас мы живём в Марксштадте. Отцу несколько раз приходилось переезжать. Первый раз в десять лет, когда в Поволжье были холера и голод. Это был тысяча восемьсот девяносто первый год. Сначала умер его дедушка, потом мать, отец и две старшие сестры: одной было девятнадцать, другой семнадцать лет. Шестеро младших остались с бабушкой Катариной. В шестьдесят пять лет прокормить такую ораву внуков ей было не по силам. Двоих взяла её сестра, двоих брат. Они их усыновили и в тысяча девятьсот шестом году увезли в Америку. В тот год очень много немцев уехали туда из Поволжья. А моего отца брать никто не хотел. Бабушка отвезла его в Екатериненштадт11, и отдала в ученики пекарю Ройшу. Только младшего – двухлетнего Ивана – она оставила у себя. Через год бабушка умерла, и дядю Ваню отдали в сиротский приют. Там его сильно обижали. Отец говорил, что Иван не мог избавиться от обиды, даже став взрослым. От этого он стал пить и уже перед войной был запойным пьяницей. Но ему удалось устроиться на железную дорогу в Саратове. Однажды он напился и пьяным попал под поезд. Ему было тридцать три года. В двадцать пятом году умерла его жена. У них осталась четырнадцатилетняя дочь Ада. До совершеннолетия она жила в нашей семье, потом поступила в медицинский институт, два года назад его окончила и сейчас работает в Саратове врачом.
– Ты у своих родителей один, или есть ещё братья или сёстры?
– У меня брат Фёдор и две маленькие сестры. Были ещё старший брат Эдуард, он умер от скарлатины в двадцать лет, а старшая сестра Нина умерла в тридцать третьем году при родах. Она была слишком слаба, чтобы родить ребёнка.
– Моя дочь тоже умерла в тридцать третьем с мужем и всеми моими внуками… А ещё раньше погиб мой сын. Но это очень горькая история. Мне не надо её рассказывать на ночь. Я тогда опять всю ночь не смогу спать, а мне завтра рано идти на работу.
– А я напишу ещё два письма – домой родителям и своей девушке. Какой у вас адрес?
Механик МТС
На следующее утро Майер отправился в контору МТС. Кабинет директора заливало слепящее солнце, из-за которого Сашке пришлось щуриться, чтобы разглядеть своего начальника, сидевшего к окну спиной.
– Александр Эдуардович Майер? – спросил тот, посмотрев поданные ему бумаги.
– Так точно, направлен к вам после окончания техникума.
– Вижу, вижу. Моя фамилия Борн, если ещё не знаешь, зовут Аксель Иванович.
Привыкнув к яркому свету, Сашка разглядел наконец, что директор сед до белизны, лицо с крупными чертами обжарено как у бедуина в Сахаре, руки большие с надутыми венами и жёлтыми от табака ногтями. На нём был наглухо застёгнутый френч, в то время как Сашка в лёгкой, расстёгнутой на две пуговицы, рубашке с закатанными рукавами уже изнывал от жары.
– Хозяйство у нас, Александр, непростое: сто пятьдесят тракторов, девятнадцать комбайнов, двенадцать автомобилей. Мы обслуживаем семь колхозов. Продолжается сенокос, через две недели начнётся уборка озимых. Техника должна работать бесперебойно как часы. За каждый простой нам надо будет держать ответ. Ты понимаешь о чём я?
– Конечно.
– Твоё дело выезжать в колхозы, где работает наша техника, и оперативно устранять поломки. Колхозов семь – только успевай поворачиваться.
– А выезжать на чём?
– Не беспокойся, у нас две «летучки», правда, старые, но обещают дать новую. Пойдём познакомлю тебя с напарником. Ты зажигание выставлять умеешь?
– Умею, а что?
– Хорошо, что умеешь.
Аксель Иванович вынул из кармана мешочек с махоркой из немецкого табака и, скрутив и закурив папиросу, повёл его к зданию мастерской, похожему на птицу – с монтажным цехом в центре и двумя крыльями по бокам, в которых находились слесарки, моторный, медницкий, токарный и кузнечный цеха, в каждый из которых директор завёл новоиспечённого механика.
– И вот ещё что, Александр, – в нашем мазутном царстве в чистом не ходят. Не рассчитывай, что будешь только командовать. Запомни, пока сам не разберёшь и не соберёшь все узлы трактора, механиком тебя никто не признает. Так что иди, получай рабочую робу. Вот как раз за этими дверями можешь её получить. Это наш склад и инструменталка одновременно.
Через пять минут они вышли из мастерской через задние ворота и очутились перед автомобилем с будкой, в котором Сашка узнал марку ГАЗ-АА. На подножке сидел человек лет тридцати в мазутных штанах и куртке с самокруткой в зубах, источавшей дым такого же запаха, что директорская – в Л… все курили табак, выращенный в своих огородах.
– Давид Резнер, – представил его Борн. – Давидка, это наш новый механик Александр Майер. Будешь с ним работать. На сегодня вам задание: колхоз имени Ворошилова. А я поеду в имени Молотова.
– Ну что, Александр? Поехали! – сказал Резнер, когда директор ушёл. – Подожди, закурю только.
– Ты ведь только что выкинул окурок. Курить вредно.
– Мне не вредно. Немцы – табачники, ты же знаешь. У нас дома на чердаке табака ещё на три года.
– И давно ты куришь?
– С детства. Первый раз закурил… не припомню: толи умел уже говорить, толи нет. Но, когда в школу пошёл, точно курил. И дед мой с детства курил, а дожил до девяноста трёх лет и до последнего дня был в своём уме. А ты говоришь вредно!
– Если б не курил, может до ста трёх дожил – ведь не проверишь.
– А зачем жить до ста трёх? По мне лучше шестьдесят, только чтоб себе в удовольствие.
– Удовольствие – это что?
– Удовольствие – это удовольствие. Если не знаешь, то бесполезно объяснять. Что любишь, то и удовольствие. Я люблю женщин, пить вино, есть хлеб, галушки и кребли12, домашнюю колбасу и сало, курить табак, работать – много чего люблю. Зачем мне тридцать или сорок лет прибавки к жизни без всего этого? Сидеть и плакать: ах скоро смерть, ах я кашляю – не буду курить, ах живот болит – буду есть только жидкую кашку?
– Пожалуй, соглашусь с тобой. А всё же, хорошо бы жить долго и так, чтобы жизнь всегда радовала.
– Хорошо, только так редко бывает.
– А деда твоего до конца радовала?
– Дед ничего. Живой был старичок. В восемьдесят лет мешки на горбу таскал. А лет пять всё же лишних прожил. Смерти боялся, ждал со страхом, плакал и приговаривал: «Es muss auch mal Abend werden», «Es geht Berg unter!», «Der Tod kommt immer näher!», «S’ist aus, s‘ist aus!»13
– Да. Я бы не хотел. Страшна не смерть, а страх перед ней.
– Вообще-то, он не всегда боялся. Было у него средство.
– Какое?
– Когда матери надоедало его нытьё, то спрашивала: «Тата, может выпьете рюмочку?» – «Рюмочку? Разве только попробовать будет ли хорошо». Выпьет и успокоится. Спросит: как погода, выйдет на двор, туда, сюда заглянет: в порядке ли хозяйство – и так до следующего страха.
– Ну давай, поехали!
– Да, заболтался я.
Летучка, оставляя за собой клубы пыли, мчалась под синим небом с высокими белыми облаками вдоль ещё не скошенного поля, по которому неспешно трусили разных мастей лошадки, запряжённые в конные грабли, на которых восседали краснолицые колхозники со слипшимися от пота волосами, а далеко-далеко на самом краю степи, крохотные мужики в рубахах с засученными рукавами и женщины в длинных платьях и белых платках танцевали вечный балет, ворох за ворохом поднимая стога на фоне небесных декораций.
Давид резко затормозил и свернул налево на едва видимый в траве колёсный след. Стога медленно, словно нехотя, двинулись навстречу.
– Лихо ты водишь, Давид! Где научился?
– Захочешь, всему научишься. А я очень хотел. Кто я? – Сельский балбес! Что видел, что знал? – Ничего! Помню, бабушка нам кричала: «Schnell, schnell kommt Hejm, ein Fayerwagen kommt an!»14 Все боялись автомобиля как огня. Я раз убежал, два… А однажды – мне было лет семь – эта повозка остановилась на нашей улице. И такое любопытство меня взяло. Мальчишки постарше побежали смотреть, и я за ними. А от авто запах – ух! Кожи и бензина! И показался он мне самым приятным на свете. А я тогда наглым был, почти как сейчас. Залез на сидение, а когда шофёр вернулся, говорю: «Дяденька, не слезу, пока не прокатите!» Куда ему деваться: прокатил до околицы. Вот с тех пор и замечтал стать шофёром. А когда здесь при МТС открылись курсы шоферов, я первым записался. Аксель Иванович, кстати, и вёл их.
Машина остановилась у стога, на который вилами на длинных черенках две женщины, одна лет сорока, другая молоденькая в белом платье, едва прикрывавшим колени, подавали высушенное сено. Высушенный солнцем мужик, стоя наверху, принимал его и ровно раскладывал по окружности.
– Аня! – крикнул Давид. – Где бригадир?
Девушка, увидев его, расцвела, сдёрнула с головы платок и, отряхнув труху, помахала шофёру:
– Привет, Давидка!
Она была, что называется, кровь с молоком. Толстая золотая коса, уложенная на затылке, искрилась на солнце, глаза синели как весеннее небо, щёки румянились как спелые яблоки, стан был сильный, гибкий, упругий, как молодая берёзка. Она воткнула вилы в копну и подбежала к машине:
– Что ты сказал?
– Где бригадир?
– На соседнем поле. Только что ускакал. Кажется, у них косилка сломалась. Послушай, Давидка, дашь мне сегодня поездить?
– Не дам!
– Почему? – обиделась Аня.
– Надо бензин экономить. Нечего его жечь на всякие глупости.
– Ну немножечко. Сто метров?
– Посмотрю на твоё поведение. Имей совесть – старики одни без тебя упираются!
– Какие они старики! Маме сорок два, а тате сорок пять. А кто это с тобой?
– Новый механик.
Она солнечно улыбнулась и подала Майеру руку.
– Меня Аней зовут. Анна Вайгель. А вас?
– Его Сашкой.
– Почему Сашка? Он механик, твой начальник.
– У нас все равны. Если я Давидка, почему он не Сашка? Верно, Александр?
– Верно-верно, поехали скорей, посмотрим, что там с косилкой.
Свернули направо, проехали перелесок с кустами дикой малины. За ним открылось поле с травой высотой чуть не по пояс. У кромки травяного среза стоял колёсный Фордзон с прицепной косилкой, рядом ругались два мужика.
– Ты идиот, Вейде! – горячился пожилой человек в пыльном сером пиджаке и коричневом картузе. – Неужели ты не видел этот пень?
– Да где ж увидишь в такой траве! – оправдывался молоденький тракторист в одной майке и серой матерчатой фуражке с козырьком, заляпанным мазутом.
– Если бы это было у тебя в первый раз!
– Что ты ругаешься, дядя Роберт, – спросил выпрыгнувший из машины Резнер.
– Да вот этот идиот второй нож порвал за три дня. Хорошо, что вы приехали, а то бы я погнал его пешком в мастерскую сегменты клепать.
– Восемь километров пешком, по такой жаре?! И не жалко тебе парня, бригадир?
– Мне дела жалко. Такая трава не кошена! Не сегодня завтра дождь пойдёт, пропадёт ведь!
– У меня есть наклёпанный нож! Я предусмотрительный. Александр, принеси нож из будки! А ты, Федька, давай сюда свой, мы сейчас наклепаем.
– Ну тогда я поеду к стогам, – сказал бригадир, садясь в седло, – я вижу вы без меня справитесь.
– Справимся-справимся, бригадир Кляйн, – заверил его Резнер.
Сашка принёс наклёпанный нож, быстро установил его с Давидом на косилку и велел трактористу.
– Заводи!
Двигатель затарахтел, агрегат двинулся вдоль среза травы, и она стеной стала валиться на полотно косилки.
Пошли клепать сегменты:
– Идиот, как он полотно ещё не порвал! – сказал Резнер.
– Я бы наоборот, похвалил его, что вовремя остановился.
– Меня не хочешь похвалить?
– Хвалю. Ты сам придумал обменный фонд?
– Идею, конечно, не я придумал, но я осуществил. У меня ещё один нож в будке лежит, этот наклепаем, будет два. А как я его создал, обменный фонд?
– Расскажи.
– Из утиля подобрал списанные ножи, где сварил, где что-то заменил, – одним словом, реставрировал. Вот у меня появились «лишние готовые ножи». И видишь, как здорово? Готовый ставлю, сломанный ремонтирую, а агрегат в это время уже работает!
– Молодец! Прямо стахановец!
– Слушай, Александр, как ты думаешь, что на свете самое главное?
– Самое главное? Много чего главного… Может, чтобы люди друг к другу относились по-человечески.
– Я думаю, самое главное – это еда. Чтобы каждый человек был сыт. Я это на своей шкуре испытал. У меня пять лет назад15 в семье четверо умерло. Тогда мне ничего в голову не приходило кроме как пожрать. Это когда все нажрались, начинают выдумывать всякие философии, теории, бесполезные мысли в голове туда-сюда гонять. А отсюда вывод: мы, крестьяне, самые главные на свете – вот сделаем так, чтоб никто никогда не голодал, и будет нам за это вечный почёт.