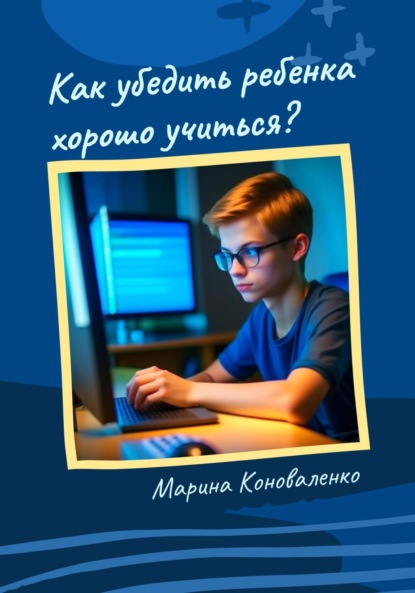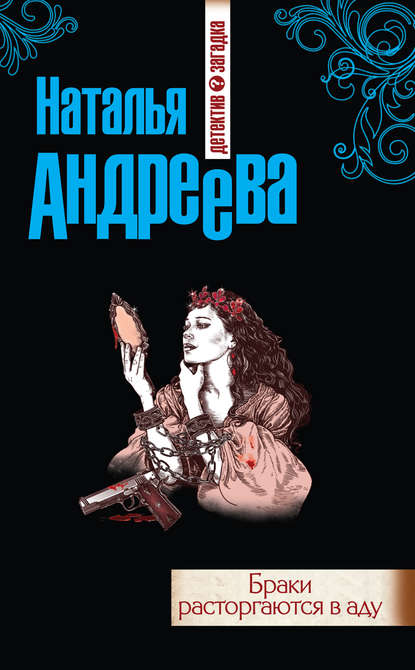- -
- 100%
- +
– Пожалуй, соглашусь с тобой, хотя…
– Вот я и хочу быть крестьянином. А ты хочешь?
– Я тоже не против. Вон какой воздух, какой запах! Где ещё такие условия труда?
– Это ты про запах скошенной травы? А знаешь, как пахнет клевер, когда его косят?! Просто ложись и помирай от удовольствия.
– Вот видишь, а ты куришь, табаком его перебиваешь.
– Так я и от того, и от другого получаю удовольствие. Не будешь же день и ночь сидеть в поле и клевер нюхать. Дома можно и покурить. Постой! Ты, кажется, сказал «хотя». Не согласен что ли, что мы самые главные?
– Крестьяне тысячи лет существуют, а голод не победили. Почему? Потому что голыми руками работали. Нужны машины. Кто их сделает? Рабочий. Значит рабочий так же важен, как крестьянин. Какой у нас сейчас урожай считается хорошим? Если собрать в пять – шесть раз больше, чем посеяли. А чтобы всех на свете накормить, надо в десять раз больше, даже в двадцать. Кто выведет такие сорта? Учёные.
– Да-да! Такие, как Мичурин.
– Значит, все важны: крестьянин, рабочий, учёный…
– Если все важны, то и жить должны одинаково.
– В идеале да. Но сейчас это невозможно. Когда настанет полный коммунизм, и у каждого крестьянина знаний будет как у учёного, пожалуй, так и будет.
– Жалко! Хочется, чтобы это было при моей жизни.
– Может и мы доживём. Только учиться надо.
– Будем учиться. Я люблю учиться.
– Куда сейчас? – спросил Майер, когда нож был наклёпан и инструменты собраны.
– Чёрт его знает. У нас часто бывает: сидишь, ничего не делаешь, вдруг скачет верхами бригадир и ругается: «Трактор два часа простаивает, а вас не доищешься!» Я мечтаю, чтобы у каждого было в кармане маленькое радио. Тракторист нам сообщает: «У меня поломка! Я стою на таком-то поле!» Пятнадцать минут, и мы подъехали. Ты как думаешь, можно сделать такое радио?
– Можно, конечно! Да есть уже такое радио – рация называется.
– Почему их нет на каждом тракторе, на каждой машине?
– Наверное они дорого стоят. А ты молодец, что об этом думаешь. А пока надо, чтобы все знали, где нас искать. Например, если мы свободны, то стоим у бригадного стана.
– Давай лучше поедем к стогам. Там народу много. И обед туда привезут.
– Будь по-твоему, поехали к стогам. Небось по Ане соскучился?
– Соскучился. После уборки женюсь на ней.
– Она согласна?
– А ты не заметил, как она обрадовалась, увидев меня?
– Заметил. Девушка красивая.
– Ни у кого нет таких золотых волос.
– Согласен. Коса у неё необыкновенная.
– И интересы у нас общие. Она помешана на машинах.
В полдень к стогам приехали с обедом бригадные поварихи Эмма Шоль и Сузанна Киль.
– Тётя Эмма, что на обед? – спросила резвая Аня.
– Картошка с галушками, – ответила пятидесятилетняя тётя Эмма.
– Опять картошка с галушками!
– А что тебе, жаренных колбас? Ешь, давай, не привередничай!
– А я люблю галушки, – сказал Давид. – Накладывай, тётя Эмма, побольше да топлёным маслом хорошенько полей. Вот так! Отлично! А ты, Сашка, любишь галушки?
– Как тебе сказать? Было время, и я не любил. Но однажды мать отучила меня привередничать.
– Как это ей удалось?
– Мне было восемь лет. Помню, было начало лета и варить было особенно нечего: после длинной зимы у нас остались, только мука и картошка. Семья была большая, моей младшей сестре был только год, матери и варить-то было некогда. Поэтому она и варила то одну картошку, то одни галушки, то картошку и галушки вместе. Когда она в очередной раз сварила галушки с картошкой, я оттолкнул от себя тарелку, набычился и сказал: «Опять галушки с картошкой! Это не вкусно, я не хочу, я лучше попью чаю с хлебом». – «Не вкусно?! Не хочешь!? Чаю тебе с хлебом!? А ну вон из-за стола!» – она крикнула так страшно, и так решительно шлёпнула ладонью по столу, что я вылетел не только из-за стола, но и из кухни, из сеней и из дому. Я остался без обеда, играл без всякого удовольствия и к вечеру сильно проголодался. Наконец настало время, когда никакие игры уже не шли на ум, и я думал только о еде. Слоняясь вокруг дома, я потянул носом воздух и почувствовал, что мать жарит креппели. А я их очень любил – замешанные на простокваше, пышные, румяные, жаренные в масле. А ещё я видел, что мать на днях достала из погреба баночку клубничного варенья, на которую я мог только вожделенно смотреть сквозь стекло в шкафу. И я думал, что сегодня она непременно извлечёт её оттуда. Не зря же она печёт креппели. Мы будем есть их с чаем, а может даже с кофе. А кофе будет со сливками. Может ли быть на свете что-то вкуснее, чем горячий кофе со сливками, с настоящими креппелями, да ещё и с клубничным вареньем?!
– Я согласен. Это очень вкусно!
– И вот мать вышла на крыльцо звать нас ужинать. Слюнки стекались у меня во рту. Но я знал, что должен войти на кухню, как благовоспитанный мальчик, пропустить старших, а потом уж занять своё место. На столе действительно стояла знакомая мне банка с вареньем и блюдо с горкой креппелей. Отец, сложив руки перед собой, прочёл молитву, благодаря Бога за ниспосланную нам еду. Потом все сели, и мать положила перед каждым кусок креппеля и поставила блюдце с вареньем. Очередь дошла и до меня. Представь моё разочарование, когда вместо горячего креппеля с вареньем она поставила передо мной мою тарелку с подогретыми обеденными картошками и галушками! Я стиснул зубы, чтобы не зареветь, взял вилку и безмолвно принялся за еду. Обида была неимоверная, но на этот раз нелюбимая мной еда показалась мне очень даже вкусной. Я всё съел и с тех пор не привередничаю и не отказываюсь ни от какой еды.
– Суровая у тебя мама, – сказала Давид. – Может так и надо.
– А потом уж рады были любой еде.
– Сейчас-то можно хоть огурцов с помидорами нарезать! Вы скажите, мы со своего огорода принесём, – сказала Аня. – Завтра пойду к председателю.
– Сходи, сходи, похлопочи за нас, – сказал Давид.
– А ты дашь мне за это проехать немножко на машине.
– Как думаешь, Александр?
– За это можно.
Семейные фотографии
Майер вернулся домой, когда сумерки были настолько густыми, что силуэт лежащей на помосте Суззи едва угадывался. Вернувшаяся с вечерней дойки Эмилия Фёдоровна уже подоила её, и хлопотала в летней кухне.
– Я пожарила картошку с яйцами, – сказала она, – может ты хотел что-нибудь другое?
– Нет-нет! Я очень люблю жаренную картошку.
– Ну тогда отнеси в дом чайник, а я принесу сковородку.
Они поели.
– Давайте, я помогу вам помыть посуду.
– Что ты, что ты! Иди лучше почитай газеты.
Сашка пошёл в горницу. Со стенки над комодом прямо в глаза ему смотрел трёхлетний ребёнок. Его взгляд притягивал и переворачивал душу. Майер, замерев, смотрел на него и не заметил, как подошла тётя Миля:
– Ты смотришь, Александр, на эту фотографию? Я давно хотела убрать её, потому что она разрывает моё сердце, но не могу.
– Наверное, это ваш сын?
– Да, его звали Генрих. Он родился за два года до войны с Германией. В тот день, когда мой муж Карл получил повестку, я долго плакала. Он не находил себе места и всё говорил: «Я чувствую, что не вернусь, что провожу с вами последние дни». Слушать это было для меня большим горем. Мои глаза не высыхали от слёз. Карл мучился всё больше. Он выходил, ходил взад-вперёд по двору, снова заходил, садился на лавку, курил, вздыхал, смотрел на часы, которые ты видишь на кухне, и я знала, о чём он думает: вот осталось два дня… полтора дня… только сутки. Наконец он сказал: «Я хочу иметь о вас память. Когда мне станет совсем плохо, я буду смотреть на тебя и наших детей, вы дадите мне силы». И мы поехали в Покровск16 фотографироваться – Карл, я и наши дети: Эрна, которой было шесть лет, и двухлетний Генрих. Я не знаю, цел ли тот дом, где делали тогда фотографии. Над входом было что-то написано немецкими буквами, но не по-немецки, а как написано на фотографии.
Майер пригляделся и прочитал: «Cabinet Portrait».
– По-моему, это по-английски: «Кабинет портрета».
– Я изо всех сил старалась быть спокойной и весёлой. И у меня получилось. Скажешь ли ты, что на этой фотографии женщина, в душе которой ад? Но это было так. Генрих закапризничал, но фотограф крикнул ему, что сейчас из ящика вылетит птица, он повернулся и посмотрел. Видишь, что застыло в его глазках: удивление, ожидание, будто он старался разглядеть что его ждёт впереди. Потом я снялась с Эрной. Она стояла на той же тумбе. Напоследок мы сфотографировались с Карлом. Он пошёл к хозяину и попросил сделать фотографии сегодня, потому что завтра он поедет на войну. Хозяин сказал, что это невозможно: надо прийти через неделю. И Карл на другой день уехал. Через неделю я поехала за фотокарточками. Мне сказали, что та, на которой мы с Карлом, не получилась, и отдали только две, где я с детьми.
– Ваш муж так и не увидел эти фотографии?
– Увидел. Очень скоро я получила от него письмо. Я его прочитала, и как камень упал с моей души. Он служил в Крыму в городе Керчь: «Передо мной море, – было написано в письме. – Море большое. Другой берег не видно. Оно синее, как наша Волга в ясную погоду. Здесь тепло, много яблок и совсем не стреляют. Поэтому не волнуйся, а береги себя и детей». В тот же день я послала ему фотокарточки. Он их получил и ответил, что каждый вечер смотрит на них и молится. Наверно он просил кого-то писать, потому что сам не умел ни по-русски, ни по-немецки. Мы ходили с ним в одну школу. Я училась хорошо и сидела в первом ряду, а он учился плохо и сидел на последней скамье среди неуспевающих.
Следующее письмо от него я получила весной следующего года. Он писал, что служит теперь в Севастополе и прислал вот эти фотографии с солдатом и матросом.

Он писал, что служит теперь в Севастополе и прислал вот эти фотографии с солдатом и матросом.
Я очень обрадовалась. Он был живой и весёлый, и я поверила, что он вернётся ко мне. Я не ошиблась, и после революции Карл вернулся домой.
– А как же предчувствия? – вырвался у Сашки бестактный вопрос.
– К счастью они были неправильными. Часто мужчины оказываются слабее женщин. Карл потом говорил: «Прости, что я отравил тебе столько дней перед расставанием». Но разве я могла думать об этом?! Надо ли тебе рассказывать, какой счастливой была я и вся наша семья после его возвращения. Даже ужасный голод двадцать первого года мы пережили не так трудно. В то время в нашем селе открылась американская кухня. Из Америки туда присылали посылки с мукой, белой фасолью и мясными консервами. Люди приходили на кухню и получали немного еды. Её было немного, но всё же это помогло нам выжить.
Потом жизнь наладилась. У нас была земля, четыре лошади, три коровы. Мы были сыты, а что ещё нужно. Выдали замуж Эрну. У неё родилось двое детей: Анна и Володя. Вот, смотри на эту фотографию. Это тридцать первый год. Последний наш счастливый год. Посередине я и Карл. Между нами наш сын Генрих. Здесь ему девятнадцать лет – этому ребёнку, который стоит тут на тумбе, как на постаменте. Никто из нас не думал, что ему никогда не будет двадцать!
Тётя Миля не рыдала, не всхлипывала, но лицо её было мокрым от слёз.
– Вот это наша дочь Эрна, на руках у неё Анна. Ей четыре годика, рядом с ней её муж Фёдор, на руках у него сидит Володя, которому три года. Вот такая у нас была семья. А на этих фотографиях мы по отдельности: я с Карлом; Эрна с мужем и детьми – моими внуками. Наши дети Генрих и Эрной. Всё было… Всё было. Остались одни фотографии.
– Эмилия Фёдоровна! Как же…
– Ты хочешь спросить, как случилось, что я осталась одна? Сначала погиб мой сын. Ты видишь, он ведь был богатырь. Как мы гордились им, как радовались, что он такой высокий, красивый и сильный. Сила его и погубила. В его силе пряталась его смерть. Это было летом на Троицу. Сев закончился, все отдыхали. За селом собрался народ. Праздновали, как могли. Старый учитель Муль со своими музыкантами играли на инструментах, женщины и девочки пели песни, танцевали и водили хороводы. Мы с Карлом тоже были, тоже пели и танцевали. А потом пошли домой. Генрих остался. Мы не могли подумать ни о чём плохом. Но мужики стали соревноваться в силе. Много было в нашем селе сильных мужиков. Один Филипп Фельдбах чего стоил! Он считал себя первым силачом и затеял это состязание. Он пронёс два мешка муки на двадцать шагов. Но ему было сорок, то есть, мужик был в самом расцвете сил. Людвиг Бахман пронёс два мешка на тридцать шагов. Филипп прошёл с таким грузом сорок шагов. Бахман струсил и отказался бороться дальше. Тогда Филипп обратился ко всем мужикам: «Кто ещё хочет потягаться со мной?! Ага! Нет таких!» Вот тогда вышел наш Генрих. «Я, дядя Филипп, встану с тремя мешками и пройду десять шагов». Ты понимаешь, Александр, ведь три мешка муки – это десять пудов! Наш сын встал на колени. Ему положили на спину три мешка и привязали так, чтобы они не свалились. Генрих долго балансировал, чтобы найти равновесие, наконец встал и пошёл. Он шёл с трудом переставляя ноги. Жилы на его шее надулись, как канаты. Люди считали шаги: один, два, три… Когда он ступил десятый раз, то упал вместе с мешками на бок. Очередь была за Филиппом. И он проделал то же, что наш сын, но из последних сил сделал ещё два шага. Он долго отдувался и, когда сняли мешки, сказал: «Я победил, я сделал на два шага больше!» – «Стыдись, Филипп, это не честно! Ты прошёл путь после Генриха. Он сказал, что пройдёт десять шагов и прошёл их. Если бы он шёл после тебя, то сделал бы на шаг больше, чем ты». Филипп стоял на своём – я победил! Наконец согласился: «Пусть Генрих пройдёт те же двенадцать шагов, и я признаю, что он самый сильный в нашем селе». И Генрих согласился. Всё это видел наш зять Фёдор. Он уговаривал Генриха прекратить поединок. Но народ кругом был разгорячён, жаждал зрелища и подзуживал моего мальчика. И Генрих тоже хотел доказать, что он сильнее. Он отдохнул полчаса и встал на колени. На него опять возложили смертельный груз. Сын наш смог подтянуть ногу, опереться на неё и встать. Он прошёл несколько шагов, но вдруг страшно крикнул и упал вниз лицом. Из носа хлынула кровь…
Тётя Миля замолчала, справляясь со спазмами в горле.
– Наверное у него где-то лопнула кровеносная жила. Мы ничего не знали, пока Фёдор с несколькими мужиками не привёз его домой на телеге. Как я перепугалась, Александр, когда услышала грохот сапог в сенях и Генриха внесли в комнату на руках! Вся его рубашка была в крови. Кровь капала на грудь с подбородка, и всё лицо было вымазано кровью. Мы не знали, что делать. Он исходил кровью. Его положили на кровать, я обмыла его лицо, намочила полотенце холодной водой из колодца и приложила к переносице. Муж на той же повозке, на котором привезли Генриха, поскакал за врачом Барчем. Это был очень хороший врач, не хуже, чем Грасмик из Марксшадта, но он жил в пятнадцати километрах от нас. Пока его привезли, прошло много времени, а сын всё терял и терял кровь. Доктор Барч заткнул Генриху нос бинтами и ватой, и кровь остановилась. Нет, Александр, я не обрадовалась, я не смела радоваться, я не смела даже надеяться. Но мне стало легче. Я молилась и молилась. Изо всех сил молилась. Но Господь не хотел, чтобы мой сын остался жить. Если бы доктор Барч остался до утра, Генрих был бы жив. Но за Барчем прискакали: у какой-то женщины были тяжёлые роды. Доктор Барч уехал и велел ни в коем случае не вынимать поставленные им тампоны. Все кроме наших внуков всю ночь сидели у кровати Генриха. Под утро он стал беспокойным, заметался: «Мама, мне давит голову! Можно, я выдерну эту вату?!» – «Ради бога, сынок, не делай этого! Ты же слышал, что сказал доктор!» Он чуть успокоится, а потом опять: «Мне разрывает голову! Я не могу больше терпеть!» Мы держали его за руки. Руки были холодными, как смерть. О, я сейчас ещё помню этот холод! Но Генрих был сильнее нас. Он освободил свои руки и вырвал из носа эти тампоны. Кровь хлынула опять, и она была чёрная, страшная. Отец снова поскакал за Барчем. Но когда они приехали, всё было кончено. Мой мальчик, мой большой сильный мальчик был мёртв. Он умер у меня на руках, и я закрыла его глазки! Доктор Барч развёл руками и сказал: «Я же вам не просто так не велел вынимать тампоны! Если бы он вытерпел ещё час, кровь бы остановилась». Гибель моего сына стала только началом моих несчастий. Смерть нашла дорогу в мой дом и выгребла из него всех, кто был мне дорог. Наступил тридцать третий год. Какой это был страшный год! – Эмилия Фёдоровна замолкла.
– Я знаю. В тридцать третьем умерла моя сестра Нина. Она была беременной и у неё не хватило сил родить ребёнка. Мы жили в Розенгейме, у отца с матерью там был дом, хозяйство, доставшиеся матери от её отца. Они его продали за полмешка пшена, мы сели на пароход и поплыли вверх по Волге, куда глаза глядят. На каждой остановке парохода отец выходил на пристани и смотрел, чем там торгуют. И так мы доплыли до Чебоксар. Отец опять вышел на разведку. Но на этот раз он быстро вернулся и сказал: «Собирайтесь! Здесь торгуют пирогами, не пропадём». Два года мы жили в Чебоксарах у хозяйки в одной комнате с козой и собакой. Вернулись уже не в Розенгейм, а в Марксштадт. Там у родителей был дом, в котором они жили до революции. Переехав в Розенгейм, они его на всякий случай не стали продавать.
– В нашем селе люди настолько ослабли, что были не в силах хоронить своих умерших. Их выносили за ограду и клали у ворот. По утрам проезжала подвода, на которую собирали мертвецов. И уже не было никаких американских кухонь. Хлеб закончился в апреле, мы ели лебеду и ходили в степь выливать из нор сусликов. Эрна со своей семьёй жили в соседнем селе отдельно от нас, и мы ничем не могли им помочь. Однажды Эрна с Фёдором пошли за сусликами. С ними отправилась и сестра Фёдора Берта. Им не повезло. Они не поймали ни одного суслика, но натолкнулись на дохлую лошадь и отрезали от неё кусок мяса. Когда они шли домой, то встречные зажимали носы и спрашивали их с ужасом: «Неужели вы хотите это съесть?» – «Мы ведь сварим, – отвечала Берта, – Нам надо жить, потому что без нас умрут и наши дети». Они сварили это мясо, съели и умерли: Эрна, Фёдор, Берта и трое её детей. Это было страшно, как они мучились. Я это не видела. Много позже об этом нам рассказали соседи. Когда мы узнали, что наша Эрна с мужем умерли, я свалилась полумёртвой.
Карл пешком пошёл за нашими внуками: за Аней и Володей. Они были живы, потому что не ели дохлятины. Я ждала мужа всю ночь, но домой он не вернулся. Утром я пошла к соседу Готлибу Раату. У него осталась лошадь. Он посадил меня на повозку, и мы с ним поехали искать Карла и нашли его мёртвым недалеко от села. Карл не дошёл совсем немного. Я осталась со своими внуками, в один день ставшими сиротами. Я могла им помочь только тем, что отдавала им всё, что только могла найти съестного, не беря себе ни крошки.
Первым умер Володя, которому было пять лет. О, каким страшным был мой внук, когда я видела его в последние часы его жизни! Он до сих пор стоит у меня перед глазами! Чёрные впадины глаз на черепе, вылезшие рёбра, вспученный живот, тонкие как у цыплёнка ноги. Внучка Анечка прожила на два дня дольше, но ослабла настолько, что не могла ходить. Ей было шесть лет. Однажды, ещё при жизни родителей, соседи Рааты из жалости дали ей кусочек хлеба. После этого она каждое утро ползала к ним и протягивала свою чашечку. Они, плакали и клали в неё ложку затирухи. Как ни цеплялась моя Анечка за жизнь, голод убил и её. Все мои родные умерли, и больше всего на свете я хотела умереть вслед за ними. Но бог не взял меня. Наш председатель колхоза каким-то образом добился, чтобы меня отправили в больницу. Я лежала там почти два месяца и выжила, но осталась на этом свете одна. Но что делать? Наверное, Господь знает, зачем оставил меня жить. Что ж, не буду противиться его воле.
«Работать или вредить?»
Прошло почти две недели. В колхозе имени Ворошилова на время сенокоса и уборки зерновых выходные были отменены. Сенокос подходил к концу и машинно-тракторная станция, которой руководил Аксель Иванович Борн, готовилась к уборке хлебов.
– Смотри, Александр, трактора, буксирующие комбайны, не должны простаивать по нашей вине ни минуты, – предупредил Борн.
– Я понял, – ответил Майер.
– Вижу, что не понял. Ты осмотрел трактора? Нет не осмотрел. А должен был это сделать в первую очередь.
– Аксель Иванович, вы направили меня в колхоз имени Ворошилова. Я целыми днями крутился, как белка в колесе.
– Значит ночью должен был осмотреть. Смотри, времени у нас немного. Вот, возьми список тракторов, там указано в каких колхозах они работают. Два дня и ко мне с докладом!
– Слушаюсь. Только… Пошлите кого-нибудь вместо меня в колхоз имени Ворошилова.
– Ну хорошо. Только вечером заедь туда, посмотри, как там обстоят дела.
– Давида Резнера дадите мне колхозы объезжать?
– Гм! Не успел тебе в одном уступить, как ты уже другое просишь. Резнера не дам и летучку не дам. Возьми мой мотоцикл.
Вечером следующего дня – раньше срока – Майер явился к своему начальнику.
– Аксель Иванович, в общем всё нормально. Практически все трактора работоспособны. Провести техуходы и можно прицеплять комбайны. Я забраковал только два трактора. Вот их номера. Сашка положил перед Борном бумажку.
– Большой ремонт?
– Требуется ремонт двигателей: из труб вылетают чёрный дым и пламя.
– Что же бригадиры, трактористы? Не видели этого? Почему молчали?!
– Этого я не знаю.
– Сколько времени потребуется на ремонт? Пожалуй, дня три – четыре?
– Да, четыре дня – не меньше. И трактора надо сюда тащить в мастерскую.
– А уборка начинается послезавтра. Это приказ сверху. И два трактора из уборки выпадают! Александр, нас за это по голове не погладят!
– Аксель Иванович, но эти трактора работать не смогут. Надо снять двигатели разобрать, расточить цилиндры и поменять поршневые.
– Сам знаю, но как ремонтировать? Трактора должны быть в колхозах…
Сашка горячо стал убеждать Борна, что техника не знает, что ей приказано работать, она не понимает язык приказов.
– Аксель Иванович! Пусть трактора на два дня опоздают, зато будут работать весь сезон! А так они в первый же день встанут колом там, в колхозе и никакого проку от них не будет!
– Молод ты, Александр, и горяч! Но ты прав, чёрт возьми! А если не тащить трактора сюда, а снять двигатели в поле и привезти сюда? Будет быстрее.
– Можно и так.
– Валяй, но, чтобы за три дня сделал, а не за четыре! А лучше за два!
– За два – никак, а за три – постараюсь.
Сашка и Давид Резнер поехали в колхоз имени Ворошилова и совместно с несколькими трактористами сняли двигатель с одного дефектного трактора, Борн с механиком Лимбахом привезли в мастерскую второй двигатель из колхоза «Большевик».
Немедленно начали разбирать. Сашка был рад: его диагноз оказался верен – поршневые были негодные.
Вечером он пришёл к себе на квартиру ужасно довольный.
– Ты, Александр, сегодня сияешь, как будто у тебя праздник, – сказала Эмилия Фёдоровна.
– Праздник и есть. Первый раз сам себе доказал, что не зря меня учили: и в технике разбираюсь, и руками работать умею.
– Тогда давай ужинать.
Тётя Миля поставила перед ним на стол: хлеб, картошку, два яйца, стакан молока. Сашка ел с большим удовольствием.
– Очень вкусно, Эмилия Фёдоровна!
– Да… Нам бы такую еду пять лет назад… Ты извини, я не хотела испортить тебе хорошее настроение и аппетит. Послушай, мне кажется, подъехала машина.
– Да ну! Одиннадцать часов! Кто может приехать в такое время?
Но Эмилия Фёдоровна не ошиблась. Раздался стук в окно – громкий, требовательный и крик:
– Эй, хозяйка, где твой постоялец?! Давай его сюда!
– Господи, боже ты мой! Что могло случиться?!
Майер выскочил на крыльцо как был: в штанах и одной майке.
Прямо перед ним стоял военный с усами, в фуражке с синим верхом и в перетянутой ремнями гимнастёрке с красными петлицами. На поясе висела кобура.
– Поехали, – сказал военный.
– Куда?
– Увидишь.
– Одеться можно?
– Одеться можно. Но на всякий случай войду с тобой.
Сашка надел чистые брюки и рубашку.
– Готов? Тогда пойдём!
Вышли за ворота. Против них на улице стояла легковушка.
– Садись, – сказал военный, открыв дверцу.
Нельзя сказать, что Майер испугался, но на душе стало тревожно.
– Зачем я им понадобился и в чём виноват? – думал он. – Вроде ни в чём.
Машина выехала за село.
– Куда мы едем? – спросил Сашка.
– В районное управление НКВД, – ответил военный.
– Зачем?
– Вы ответите на несколько вопросов, а дальше видно будет.
Машина ехала мягко, усыпляюще журчал мотор, Александр стал понемногу успокаиваться.
Наконец подъехали к двухэтажному зданию НКВД, завели в просторный кабинет, в котором ярко горел электрический свет, стоял большой стол, за которым сидел другой военный, постарше и посолидней того, что привёз Майера – по званию он был капитаном.