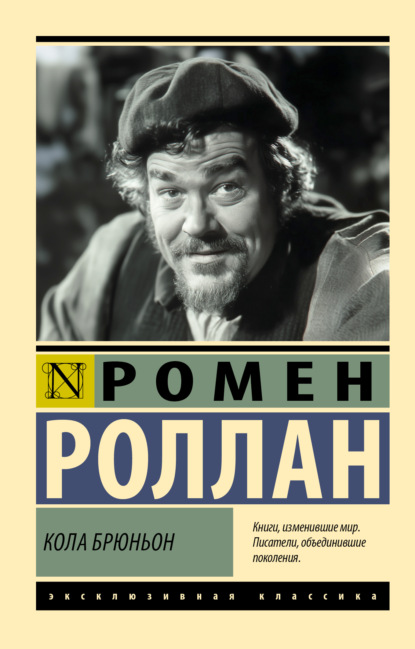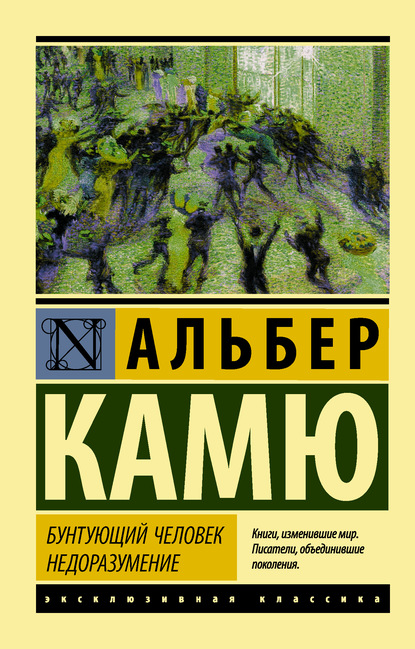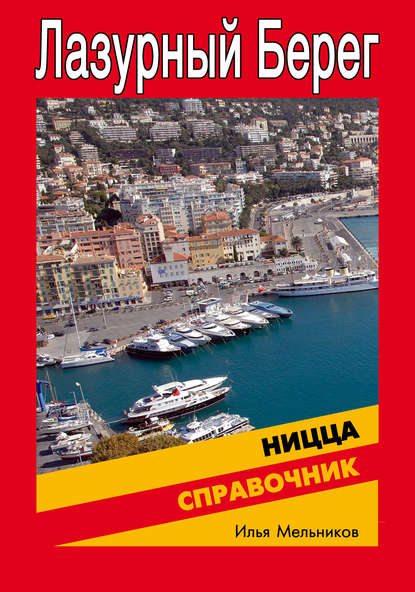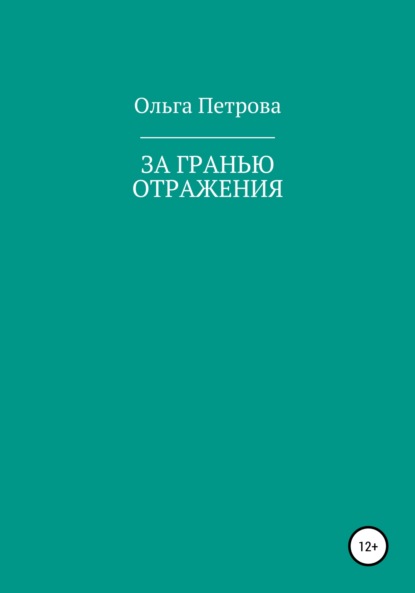- -
- 100%
- +

© Перевод. Т. Чугунова, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
* * *Святому Мартину Галльскому,
покровителю Кламси1[1]
Вино отборное святым Мартином пьется,
А после из него на мельницу водица льется.
Поговорка XVI векаПослевоенное предисловие
Эта книга была полностью отпечатана и готова увидеть свет уже до войны, и я ничего в ней не изменил. Кровавая эпопея, участниками которой – героями и жертвами – стали в недавнем времени потомки Кола Брюньона2, озаботилась доказать миру, что «жив, жив еще Курилка»3.
А европейские народы, познавшие славу и изнуренные в битвах, потирая бока, найдут, мне кажется, некоторый здравый смысл в рассуждениях одного «ягненка из наших мест, чей век проходит меж волком и пастухом».
Р. Р.
Ноябрь 1918
Предуведомление
Читатели «Жан-Кристофа» вряд ли готовы ко встрече с этой моей новой книгой. Она удивит их не больше, чем удивляет меня самого.
Я был занят сочинением других произведений – драмы и романа из современной жизни, действие которых происходит в несколько трагичной атмосфере «Жан-Кристофа». Как вдруг мне пришлось отложить в сторону все свои подготовительные заметки, все уже написанные сцены и заняться сочинением этой бесхитростной книги, о которой я еще день назад и не помышлял…
Она является реакцией на принужденную десятилетнюю закованность в доспехи «Жан-Кристофа», которые изначально были по моей мерке, но в конце концов стали мне тесны. Я ощутил неодолимую потребность в глотке вольной галльской веселости, доходящей до дерзости, да, именно так. В то же время возвращение в родные места, в которых мне не привелось бывать с юношеских лет, позволило мне вновь припасть к моей родной Бургундии, к графству Невер, и пробудило во мне прошлое, которое, казалось, навсегда уснуло, а заодно и всех Кола Брюньонов, которых я ношу в себе. У меня возникла потребность говорить за них. Ведь эти окаянные болтуны не наговорились на своем веку! Они воспользовались тем, что один из их потомков обладает завидной привилегией – умением писать (как же часто их брали завидки!) и привлекли меня в качестве писца. Как я ни отбивался:
– Прадед, у вас была возможность выговориться! Дайте и мне сказать. Каждому свой черед!
Они отвечали:
– Сынок, будешь говорить, когда я закончу. Для начала, что интересного ты можешь рассказать? Садись-ка да слушай, и не пропускай ни словечка… Ну, давай, птенчик, сделай это для своего прадеда! Потом поймешь, когда окажешься там, где мы сейчас… Знаешь, самое ужасное в смерти – это вынужденное молчание…
Что было делать? Пришлось уступить, я стал писать под их диктовку.
И вот работа подошла к концу, и я вновь свободен (по крайней мере, полагаю, что это так). Вернусь к изложению собственных мыслей, если, конечно, один из моих словоохотливых старичков не вздумает выйти из могилы, чтобы надиктовать мне свои послания будущим поколениям.
Я не смею поверить, что компания моего Кола Брюньона так же потешит читателей, как и автора. Так пусть эта книга воспринимается ими такой, какова она есть, – откровенной, без затей, без претензий преобразовать мир, как и объяснить его, лишенной политики, метафизики, созданной «на добрый французский лад», подтрунивающей над жизнью, поскольку та представляется ей сто́ящей, а автор книги – пребывающим в полном здравии. Словом, как говорит Девственница (а как обойтись без нее в начале галльского рассказа): дружище, «примите ее благосклонно»…
Ромен Роллан
Май 1914
I
Сретенский жаворонок
2 февраля
Будь благословен святой Мартин! В делах заминка. Нечего и пупок себе надрывать. Довольно я потрудился на своем веку. Передохнем чуток и насладимся жизнью. Я сижу за своим столом, по правую руку – кружка вина, по левую – чернильница; красивая новенькая тетрадка лежит передо мной, открыв мне свои объятья. За твое здоровье, сынок, поговорим! Внизу рвет и мечет моя женушка. За окном шумит северный ветер, дело близится к войне. Да пусть их! Какое счастье побыть вдвоем наедине с тобой, мой милый пузан!.. (Это тебе я говорю, я, у которого ряшка кровь с молоком, каких мало, смеющаяся, с длиннющим бургундским носом, посаженным набекрень, словно шляпа, съехавшая на ухо…) Но скажи мне, прошу тебя, что за странное удовольствие я испытываю, оставаясь наедине с тобой, склоняясь к твоему уже немолодому лицу, весело пробегая по всем его морщинкам и, будто из глубины колодца, – тьфу ты! не колодца, а погреба – черпая в сердце чарку старых дорогих воспоминаний? Ладно бы помечтать о том о сем, но описывать то, о чем мечтаешь!.. Да что я говорю – мечтать! Глаза мои широко открыты, при этом чуть прищурены у висков, благодушны и насмешливы; пустые мечты – удел других! Я рассказываю о том, что видел сам, о том, что говорил и делал сам… Безрассудство, не правда ли? Для кого я пишу? Конечно, не для славы: я не животное и знаю, чего стою, слава богу!.. Для своих внуков? Из всех моих бумаг что останется через десять лет? Старуха ревнует меня к моей писанине, и все, что попадается ей под руку, сжигает… Для кого же тогда? Да для самого себя! Для собственного нашего удовольствия. Коли не буду писать, так сдохну. Не зря же я внук того, кто на сон грядущий не мог не записать количество чарок, которые опорожнил сам и которые преподнес другим. Мне страсть как приспичило почесать язык, а в родном Кламси состязаниями в болтовне не насытишься. Мне требуется излить, что накопилось, подобно брадобрею царя Мидаса5. Мой язык несколько длинноват; если меня услышат, то я рискую попасть на костер… Ей-богу! Но не будешь рисковать, задохнешься от скуки. Я, грешным делом, люблю, подобно нашим большим белым волам, пережевывать вечером дневной корм. И как же здорово пощупать, потрогать, погладить все то, о чем подумалось, что подсмотрелось, попалось на глаза днем, посмаковать, попробовать на вкус, еще и еще раз, подержать на языке, чтобы растаяло, потом медленно заглотнуть, рассказывая себе о том, чего не успел спокойно отведать, пытаясь поймать на лету! Как же хорошо пройтись по своему маленькому мирку и сказать себе: «Он мой. Здесь я хозяин и господин. Ни холод, ни мороз ему не страшны. Ни король, ни папа, ни войны. Ни моя ворчливая старуха…»
А ну-ка, подобьем бабки всему, что имеется в моем мирке!
Перво-наперво, у меня есть, – что может быть лучше, – я сам: добрый малый, видный из себя бургундец, Кола Брюньон, толстобрюх, которого не берет угомон, и наружностью, и манерами внушающий доверие, не первой молодости, пардон, за полвека перевалило, но крепкий, как першерон, со здоровыми зубами, с глазами, как у ястреба вдогон, и густой шевелюрой, пусть и седой… мой вам поклон. Не скажу, что по мне лучше бы он был светловолосым и что, предложи вы ему вернуться на двадцать или тридцать лет назад, я бы стал привередничать. Но, как ни крути, пять десятков лет – прекрасный возраст! Смейтесь, юнцы! Не всяк доживет до таких лет. Думаете, так просто свековать в наше время, на протяжении пятидесяти лет скитаясь по всем дорогам Франции… Господи! Сколько выпало всего, друг сердечный, и ясного солнышка, и беспогодицы! Чего только не досталось на нашу долю: и поджарило нас, и прополоскало, и высушило! В эту суму из дубленой кожи каких только удовольствий и бед не набилось не набралось: и хитростей, и балагурства, и штукарства, и безрассудства, и сена, и соломы, и фиг, и винограда, и зрелых плодов, и дичков, и роз, и шипов, сколько всего виданного-перевиданного, читанного-перечитанного, испытанного и неожиданного! Все вперемешку поместилось в этой суме! И так забавно рыться в ней!.. Однако погоди, мой Кола! Отложим до завтра. Если я начну сегодня, то не закончу до ночи… А сейчас займемся вот чем: составим опись всего, чем я владею.
У меня есть дом, жена, четыре сына, дочка, замужняя (слава Тебе, Господи!), зять (куда ж без него!), восемнадцать внуков, осел серой масти, пес, шесть кур и свинья. До чего ж я богат! Наденем-ка очки, чтобы получше рассмотреть наши сокровища. По правде говоря, о последних из помянутых приходится лишь вспоминать. По нашим местам прокатились войны, прошлись солдаты, враги, да и друзья – бывало, как нагрянут… Свинка пошла на сало, да и того осталось мало, от осла чуть поболе – рожки да ножки в поле, в погребе, гляди не гляди, хоть шаром покати, в птичнике тож – ни птенца, ни яйца.
А вот женушка, с нею – черт бы ее побрал совсем! – ничего не делается! Вы только послушайте, как она глотку надрывает. Как тут забудешь, какое счастье тебе привалило: она моя, я обладатель прекрасной птицы! Я, и никто другой! Ох уж этот плут Брюньон! Кто ему только не завидует… Господа, вы только скажите… Ежели кто желает взять ее себе!.. Я возражать не стану. Бережливая, деятельная, строгая, честная хозяйка, словом, сама добродетель (да только что проку? Признаюсь, старый греховодник, что семи худосочным добродетелям предпочту один дородный грешок… Да что уж там, остережемся греха ражего, такова воля Господа нашего). Ой, как же она бьется-колотится, наша Мария Прекрасная, палкообразная и громогласная, повсюду сует свой нос, допытывается, ворчит, брюзжит, ругается налево-направо, снует туда-сюда, с чердака в погреб, из погреба на чердак, разгоняя пыль и спокойствие! Вот уже три десятка лет как мы женаты. Одному черту известно, почему и зачем! Я-то любил другую, но та надо мной смеялась; а эта добивалась меня, хоть и не нужна была мне. В то время она была невысокой брюнеткой с бледным лицом, взгляд ее жгучих зрачков мог испепелить – ну просто две капли кислоты, что прожигает сталь. Она в меня до чертиков влюбилась. И поскольку преследовала меня (до чего же глупы мужики!), я то ли из жалости, то ли из тщеславия, а больше от усталости, чтобы избавиться от наваждения (неплохой способ!), стал (как тот болван, что в дождик лезет в чан) ее мужем. Но с тех пор это милое создание мстит мне. За что? За то, что полюбила меня. Она приводит меня в ярость, вернее, ей хотелось бы этого, но у нее ничего не выходит: я слишком люблю свой покой и не такой дурак, чтобы из-за каких-то там слов хоть на минуту впадать в уныние. Дождик небом заряжен – я не лезу на рожон. С неба грома рев и стон – вторь ему, мой баритон. А когда она вопит – смех во мне так и бурлит. Да и почему ж ей не кричать? Неужто у меня рука поднимется помешать ей, этой женщине? Нет, я не желаю ее смерти. Там, где баба завелась, тишина прочь унеслась. Пусть себе заводит свою песенку, а я свою. Поскольку у нее и в мыслях нет заткнуть мне мой клюв (слишком хорошо знает, чем ей это грозит, потому и остерегается), пусть чирикает: у каждого своя песенка.
Вообще же, совпадают наши песенки или нет, мы все же настрогали довольно красивых ребятишек: девочку и четырех мальчуганов. Все крепкие, ладные: уж я не поскупился на материал, сработал со знанием дела. Да вот только из всего выводка единственная, в ком я совершенно узнаю свое семя, – это моя дочка, Мартина-плутовка, кошечка-чертовка! Ох и трудненько было без ущерба и потерь довести до брака дщерь! Уф! Теперь уж она успокоилась! Хотя, как знать… но это уже меня не касается. Довольно я бдел да потел. Теперь пусть мой зятек покрутится как волчок. Зовут его Флоримон, он пирожник, кому как не ему и приглядывать за печкой!.. Всякий раз как мы с дочуркой сойдемся, так спорим, но ни с кем другим я так не лажу. Дочка у меня удалась на славу, осмотрительная даже в своем сумасбродстве, ценит честность, лишь бы та была без занудства: для нее худший из пороков тот, от которого со скуки сводит челюсти. Забот не боится: заботы – это борьба, а борьба – удовольствие. И любит жизнь, знает, что хорошо, ну просто вылитый я, моя кровь. Когда ее зачинали, я так подналег, столько сил вложил…
Мальчики – те удались хуже. Тут уж мать постаралась, расщедрилась, и замес получился не тот: из четырех двое такие же пустосвяты, как она, к тому же принадлежат к разным ветвям ханжества. Один все трется среди черных ряс, кюре, лицемеров, а другой – гугенот. Ума не приложу, как я высидел этих утят. Третий – солдат, воюет, бродяжничает бог его знает где. А что до четвертого, тот так, ни с чем пирог: мелкий лавочник, неприметный какой-то, овцеподобный; зевать тянет, стоит только подумать о нем. Моя порода в них проявляется разве что когда мы беремся за вилки, сидя за столом. Тут никому не до сна, и слаженность видна; любо-дорого посмотреть, как мы шестеро работаем челюстями, как у нас трещит за ушами, как мы хлеб ломаем руками, а здоровенные бутыли поднимаем рывками.
Поговорили о содержимом, теперь обратимся к самому дому. Он тоже мое детище. Я долго его строил, а потом раза три-четыре перестраивал, стоит он на берегу Бёврона, лениво катящего свои лоснящиеся зеленые воды среди покрытых густой травой, жирной землей и щедро унавоженных берегов, там, где начинается пригород, на той стороне моста, напоминающего присевшую таксу, живот которой захлестывает водой. Прямо напротив легко и гордо вознеслась в небо башня Святого Мартина, напоминающая женщину в юбочке, отороченной вышивкой, с украшенным цветами порталом, к которому ведут, словно в рай, почерневшие и крутые ступени Старого Рима. Моя скорлупка, моя хибарка находится за пределами городских стен, и потому всякий раз, как часовой с башни завидит врага, город запирает ворота и неприятель заявляется ко мне. Хоть я и не прочь почесать язык, но все же без этих гостей я мог бы и обойтись. Чаще всего я ухожу, оставив ключ на пороге. Но когда возвращаюсь, бывает, не нахожу ни ключа, ни двери, только четыре стены. Тогда я отстраиваюсь заново. Мне говорят:
– Дуралей же ты, ей-ей! Брось работать на гостей. И халупу тоже брось, пока горя не стряслось. Под защитой стен Кламси скажешь Господу мерси.
– Гоп-ла-ла! Хорошо мне там, где я. Где высокая стена, безопасность там прочна. Но, сидя за стеной, на что я буду смотреть? На стену? Да я высохну от скуки. Я люблю, когда у меня руки развязаны, когда я могу вытянуться на бережку моего Бёврона, когда из своего сада, покончив с прополкой, могу любоваться игрой лучей на речной глади, кругами на поверхности, расходящимися от плещущихся рыб, колыханьем донных трав, могу рыбачить, полоскать свое тряпье и вылить в речку содержимое своего горшка. И потом, как же так! Худо-бедно, но я всегда здесь жил, теперь уж поздно что-либо менять. Самое худшее уже случилось. Говорите, что дом снова будет разрушен? Возможно. Но, люди добрые, я же не претендую на возведение вечного. Но уж оттуда, куда я врос, меня нелегко будет выковырнуть, черт побери! Я уже отстраивался заново два раза, отстроюсь еще раз десять. Не то, что бы меня это развлекало, но поменять местожительство мне в десять раз тяжелее. Я бы превратился в тулово без кожи. Вы предлагаете мне другую кожу – новей, светлей, краше? Да она и не пристала бы ко мне или лопнула бы. О нет, мне мила моя…
Так, повторим: жена, дети, дом – ничего не упустил?.. Остается самое лучшее, приберегаю его на закуску, это моя профессия. Я член братства Святой Анны, столяр. Во время погребальных шествий и процессий я несу древко, украшенное циркулем на фоне лиры с изображением бабушки Христа, обучающей чтению малютку Марию, полную грации, в которой от горшка два вершка. Вооруженный топориком, долотом и стамеской, с фуганком в руке, я царствую у своего верстака и над дубом корявым и над орешником кудрявым. Что выйдет из-под моих рук? Это уж как мне пожелается… ну и в зависимости от того, кто сколько заплатит. Сколько же всего таится и дремлет в простом стволе дерева! Чтобы разбудить Спящую красавицу, нужно лишь, как делает влюбленный в нее принц, войти в нутро ствола. Но красота, которая выходит из-под моего рубанка, лишена какой-либо манерности. Больше поджарой как спереди, так и сзади Дианы любого из этих итальянских мастеров, мне по нраву бургундская мебель с бронзовым отливом, сработанная на совесть, добротная, с накладками в виде гроздьев, или какой-нибудь пузатый, с выпуклою крышкой сундук, или украшенный скульптурным орнаментом шкаф в духе приземленной фантазии мэтра Юго Самбена6. Я одеваю дома, обшиваю их, украшаю. Разворачиваю кольца винтовых лестниц; для меня мебель, которую я создаю для того или иного места, все равно что плоды, которые снимает садовник со шпалерных яблонь, она также привита к данным стенам, так же сращена с ними, она вместительна и основательна. Но главное лакомство для меня – это когда я могу набросать на листочке то, что рождается в моей голове и со смехом просится на бумагу – какое-то движение, жест, изгиб позвоночника, грудь, набирающая в себя воздуху, цветы на завитках, гирлянду, гротеск, или когда я ловлю на ходу и пригвождаю к доске физиономию неизвестного прохожего. Ведь это я изваял на скамьях монреальской церкви (и это мой шедевр), ради своего удовольствия и на радость кюре, тех двух горожан, которые смеются и чокаются, сидя за столом рядом со жбаном вина, как и двух львов, которые рычат и рвут друг у друга кость.
Взяться за работу, пропустив стаканчик-другой, пропустить стаканчик-другой после работы – что может быть лучше!.. Вокруг меня немало неумех, которые только и делают, что ворчат. Они мне говорят: ну и умеешь же ты выбрать момент, чтобы запеть, мол, времена не подходящие… Да времена всегда те самые, есть только люди неподходящие. Я не из их числа, слава тебе господи. Грабят друг друга? Бьют друг друга? Так было и так будет всегда. Руку даю на отсечение, что и через четыреста лет наши потомки будут также яростно драть друг с друга по три шкуры и рубиться друг с другом насмерть. Притом я не говорю, что они не изобретут сорок новых способов делать это лучше нашего. Но ручаюсь, что им не изобрести нового способа напиваться, и бьюсь об заклад, лучше меня у них не получится… Почем мне знать, что там у них будут за дела, у этих неведомых людишек через четыреста лет?.. Может быть, благодаря траве медонского кюре7, неподражаемому пантагрюэлиону8они смогут побывать на Луне, в лаборатории громов и молний и водозапорных щитов, выпускающих дождевые потоки, погостить на небесах, чокнуться с богами… Что ж, и я не прочь отправиться вместе с ними. Разве они не плоть от плоти моей, не моего семени? Роитесь, мои милые! Но надежней быть там, где нахожусь я. Кто мне гарантирует, что через четыре века вино будет не хуже?
Моя благоверная упрекает меня за то, что я слишком люблю попойки. Я ничем не брезгую. Люблю все хорошее: вкусную пищу, доброе вино, бесподобные плотские удовольствия, а еще те места, покрытые более нежной кожей и пушком, которые тебе потом снятся, люблю божественное ничегонеделание, во время которого столько всего делается! (чувствуешь себя хозяином мира, молодым, красивым, тем, кому все покорно, преобразователем земли, кому внятен рост травы, который беседует с деревьями, зверями и богами), и тебя, мой старинный товарищ, мой друг, который не предаст, мой Ахат9 – мой труд!.. До чего же приятно с инструментами в руках стоять у верстака: пилить, строгать, подрезывать, вытесывать, скреплять болтами, сверлить, вытачивать, раскалывать восхитительную твердь нежного и вязкого орешника, которая сперва сопротивляется, а потом поддается, трепещет под рукой словно бедро феи, обрабатывать розовые и белые, темные и золотые тела нимф наших лесов, лишенных своего покрова, павших под ударами топора! Радость точного движения руки, умных грубых пальцев, из которых выходит хрупкое произведение искусства! Радость ума, управляющего силами земли, предписывающего дереву, железу или камню упорядоченную прихоть своей возвышенной фантазии! Я чувствую себя повелителем царства химер. Мое поле дает мне свою плоть, а мой виноградник – свою кровь. Духи соков выращивают, удлиняют, наполняют силой, вытягивают и шлифуют на своем токарном станке необходимые мне для моего искусства прекрасные члены деревьев, предназначенные для моих ласк. Мои руки – кроткие трудяги, управляемые моим сотоварищем – стариной мозгом, который, будучи подчинен мне, отлаживает игру, угодную моему воображению. Кому когда-либо служили лучше, чем мне? О! да я ни дать ни взять просто какой-то царек! Я вправе поднять чарку за свое здоровье. И не забудем о здоровье моих славных подданных (я не из породы неблагодарных). Будь благословен день, когда я явился в мир! Сколько всего восхитительного на этом круглом шарике, и при взгляде на все это хочется смеяться, оно так и притягивает к себе! Великий Боже! До чего хороша жизнь! Сколько я ни набиваю себе ею брюхо, мне всегда мало; видать, я чем-то болен, раз в любое время дня у меня текут слюнки при виде накрытого стола с приготовленными для меня яствами в виде солнца и земли…
Однако, кум, я расхвастался: солнечные деньки пошли на спад, холода стоят у врат. Повеса зимний денек воцарился в моем доме. Перо не слушается замерзших пальцев. Прости меня, Господи! В стакане завелась льдинка, побелел нос, до чего же гадкий этот бледный цвет, кладбищенский привет! У меня от него мурашки по телу. Оп-ля! Встряхнемся, Кола! Колокола Святого Мартина трезвонят во весь голос. Нынче Сретение Господне… На Сретениезима либо издыхает, либо силу набирает… Нечестивая, она набирает силу. Ну что ж, поступим, как она! Выйдем на большак и лицом к лицу встретимся с нею…
Вот так морозец! Будто сотни иголочек покалывают щеки. Дождавшись меня за поворотом, северный ветер хватает за бороду. Так и обжигает. Благословен будь Господь! Румянец заиграл на лице… Приятно слышать, как звенит под ногами затвердевшая земля. Чувствую, как приливают силы. И что это с ними со всеми? Отчего у них такой жалкий, несчастный, неприкаянный вид?..
– Эй, соседка, выше нос! Что это вы с лица спали? На кого зло держите? На этот шалунишка-ветер, который задирает вам подол? Так и надо, он молод… Эх, жаль, не я! Кусает прямо в самое вкусное место, такой озорник, такой сластена! Терпение, кума, каждому жить хочется… Да куда ж вы так бежите, словно за вами черти гонятся? На обедню?Laus Deo![2] Господь всегда одержит верх над Лукавым. Грусть-тоска рассеется, озябший согреется… Ну вот, вы уже и смеетесь? Значит, все в порядке… Куда держу путь я? Как и вы, на обедню. Но не на ту, что отслужит господин кюре. А на ту, что приготовили мне поля.
Сперва заворачиваю к дочке, чтобы взять с собой на прогулку внучку Глоди. Мы каждый день гуляем вместе. Это моя лучшая подружка, моя козочка, моя лягушонка-непослушонка. Ей уже пошел шестой годик, она хоть куда, востра, как крысонька, хитра, как лисонька. Стоит ей меня завидеть, она уж у моих ног трется. Знает, что у меня целый короб историй, не меньше моего любит послушать небылицы. Я беру ее за руку.
– Пойдем, моя маленькая, встречать жаворонка.
– Жаворонка?
– Это Сретение. Ты не знала, что он возвращается к нам нынче с небес?
– А что он там делал?
– За огнем для нас летал.
– Огнем?
– Ну да, огнем, что греет нас, когда восходит солнце, огнем, на котором кипит земной чугунок.
– Значит, он улетал?
– Так и есть, он улетел на праздник Всех святых. Каждый год, в ноябре, он отправляется на небо греть звезды.
– А как он возвращается?
– Три маленьких птички летают за ним.
– Расскажи…
Она семенит по дороге. Тепло укутанная в белую вязаную фуфайку с синим капюшоном, она напоминает синичку. Холод ей нипочем, но ее круглые щечки красны, как маков цвет, а из носа течет, как из фонтанчика…
– Эх ты, сморчок-на-носу-лихорадка, сморкайся, да свечку, что ради Сретенья зажгла, задувай! На небе уж горит лампадка.
– Старый папочка, расскажи о трех птичках…
(Люблю, чтобы меня уговаривали.)
– Три птички, отважные друзья отправились в путь-дорогу: Королек, Зарянка и Жаворонок. Королек, неуемный, как Мальчик-с-пальчик, непредсказуемый, как вулкан, и гордый, как Артабан10, заметил несущийся по воздуху огненный шарик, похожий на просяное семечко. С криком «Мое! Поймал!» бросился он за ним. Другие последовали его примеру: «Нет, мое! Мое!». Но Королек уже поймал своим клювом шарик и стремглав ринулся с ним вниз… «Караул! Он жжется!» – завопил он вдруг, перекатывая шарик по клюву, словно обжигающую кашу, но сил терпеть у него не стало, он клюв-то и раскрыл, язык у него весь облупился, выплюнул он шарик и спрятал его под своими крылышками… И снова завопил: «Ай! Ай! Горячо! Не могу!» Крылышки у него обгорели… (Ты замечала, какие у королька подпалины и какие у него перышки? словно завитые…) Зарянка бросилась ему на помощь. Схватила клювом шарик да бережно спрятала его в своем мягком оперенье. Оттого-то оно и стало красным, как заря. «С меня довольно! Подгорели мои перышки». Тут Жаворонок, верный их товарищ, подхватил на лету огонек, пытавшийся удрать на небо, и, скорый, стремительный, точный как пущенная меткой рукой стрела, камнем пал на землю; клювом своим зарыл он солнечное семечко в наши ледяные борозды, отчего те стали теплеть, млея от удовольствия…