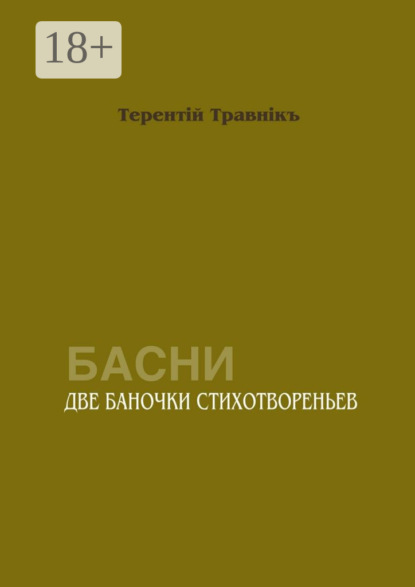Детство, отменённое войной

- -
- 100%
- +

ОТ АВТОРА
Эта книга – не о войне. Она – о том, что остаётся, когда война забирает всё. О том детстве, которое было отменено.
Здесь нет вымышленных героев. Есть мальчик по имени Миша, его братья, сестра и мать. Их путь с оккупированной рязанской земли в хабаровскую эвакуацию и обратно – это не подвиг. Это долгое, тихое, упрямое делание одного-единственного дела: остаться людьми.
Они не сражались с врагом. Они сражались с голодом, холодом, безжалостностью системы и собственной немощью. Их оружием были хитрость, молчание и немыслимая, обжигающая любовь, которая в те годы пряталась под словом «надо».
Я записал эту историю, потому что должен был. Потому что «одноколка», «полено», «канава» и «ботинки» – это не просто слова из прошлого. Это единицы измерения человечности. Шкала ценностей, выверенная в аду.
Я почти ничего не придумал. Я только попытался перевести язык жестов, взглядов и боли того времени – на наш. Чтобы мы помнили не только даты и подвиги, но и вес украденной картофелины. И цену полена, подложенного под голову незнакомцу.
Потому что именно из этой цены и этого веса сложилось наше сегодня. И наша совесть.
–—
Он сидел за кухонным столом. Достал из холодильника пакет молока, надорвал уголок. Взял кусок белого хлеба, стал крошить прямо в глубокую тарелку – пальцами, не спеша. Залил молоком. Взял ложку.
Я смотрел.
– Деда, а это вкусно?
Он поднял на меня глаза.
– Вкусно. Я, когда маленький был, об этом мечтал.
Новелла: «Одноколка» (сентябрь-октябрь 1941, Рязанская область)
Их было шестеро. Мать, её тридцать два года, спрессованные в сухую, быструю решимость. Старшие – братья: Толе тринадцатый, Лёше – двенадцатый. Тоня, десять лет, – уменьшенная копия матери, уже умеющая затягивать узел так, чтобы не развязался. Я, Мишка, шесть. И Лёнька, четырехлетний комочек тепла и главная наша тяжесть.
Уходили не пешком. Пешком бы не ушли. Вывезли на одноколке. Так её звали. Это была не телега, а уродливое корыто на одном массивном колесе посередине, с двумя рукоятями спереди. Её сгоро́дил когда-то дед для возки с подворья на огород. Баланс в ней был противоестественный – груз надо было класть строго по обе стороны от колеса, иначе перевернётся. Теперь на неё водрузили узел с одеждой, чугунок, мешок с картошкой-мелюзгой, и в оставшуюся лунку, между мешком и узлом, усадили Лёньку. Он обнимал мешок, чтобы не выпасть, и смотрел на мир с высоты этой шаткой крепости.
Тянули по очереди. Вернее, не тянули, а толкали. Это была не работа для двоих в упряжи, а каторга для четверых. Толя и Лёша брались за рукояти, упирались плечами, мать и Тоня налегали сзади на кузов. Я бежал сбоку, готовый подсунуть под колесо палку-подпорку, если окончательно завязнет.
Это не было бегством. Это было мучительное выталкивание себя и своего скарба из насиженной глины. Одноколка стонала, колесо вгрызалось в чернотропную октябрьскую хлябь, оставляя за собой глубокий, единственный след. Каждые несколько сотен шагов останавливались – перевести дух, поправить Лёньку, у которого затекали ноги в теснине между мешками. Мир сузился до этого чёрного колеса, до грязи, хлюпающей под ним, до спины брата, на которую давит вся тяжесть рукояти.
На дороге попадались другие. С котомками, с санками. Шли молча, спинами к западу, откуда уже чудилось не далёким гулом, а низким давлением, как перед грозой, от которого закладывает уши.
Испытание пришло у речки. Не у реки – у расползшегося от дождей ручья. Мосток – три скривившихся, скользких бревна. Для человека – перешагнуть. Для нашей одноколки с её центральным колесом – непреодолимая ловушка. Колесо должно было катиться ровно по бревну, но бревна шатались, промежутки между ними были шире, чем обод.
Мы замерли. Мать обошла ручей, ткнула ногой в гнилую корягу у воды. Лицо её стало плоским, землистым.
– Не проедет, – сказала она без эмоций. В голосе была холодная констатация тупика.
Попробовали. Толя и Лёша, кряхтя, взялись за рукояти, чтобы протащить конструкцию вброд. Колесо съехало в воду, увязло по ступицу в иле. Одноколка накренилась под страшным углом. Лёнька вскрикнул. Чугунок с глухим бульком нырнул в воду. Его выловили мокрым и холодным. Стало ясно: так – никак.
И тут подошли они. Трое. Местные, из деревни за полем. Стояли, смотрели. Не враги, не друзья. Наблюдатели.
– Помогите, – сказала мать. Голос ровный, без заискивания. Как констатация факта: «У вас – силы, у нас – беда».
Старший, в промасленной телогрейке, молча покачал головой.
– Валите, куда шли. Мост ломать не дадим. И так хлипкий.
– Ребёнка с вещами перенести… аппарат этот протащить… – начала мать.
– Аппарат ваш к чёрту, – отрезал второй. – Ребёнка – это давайте.
Ловушка была очевидна. Отдать Лёньку в чужие руки? Пустить одного на тот берег? Но выбора не было.
И случилось то, о чём вы сказали. Дать было нечего. Ни часов, которых отродясь не водилось, ни лишнего одеяла – все одно на всех. Была только нужда, уставшая в лицо.
Мать выпрямилась. Она посмотрела на мужиков не как просительница, а как сторона, предлагающая сделку. Единственное, что у неё было – еда и посуда.
– Поможете – дам полмешка картошки. И чугунок.
Она указала на наше жалкое имущество. Это была треть запаса и единственная ёмкость для варки.
Мужики переглянулись. Осень 41-го. Картошка – уже твёрдая валюта. Чугунок – капитал.
– Полмешка, говоришь? – переспросил старший.
– Да.
– И чугунок.
– Да.
Кивок. Работа закипела быстро, без сантиментов. Двое аккуратно вынули Лёньку из его ниши (он захныкал) и понесли по брёвнам. Третий и наши братья стали перебрасывать на тот берег узел, мешок. Потом, впятером, они подняли одноколку, оторвали колесо от ила и, кряхтя, перетащили пустую раму.
Наш мир раскололся. Мы стояли на разных берегах. Лёнька ревел у мужиков. Картошка и чугунок лежали у их ног.
Когда всё было кончено, мать перешла последней. Подошла к куче вещей, к Лёньке, которого Тоня уже обнимала. Повернулась к мужикам.
– Берите.
Старший без лишних слов развязал наш мешок, отсыпал в свой половину – пригоршнями, щедро, до последней картофелины. Взял чугунок. Кивнул.
– С Богом.
И они ушли. Не мародёры. Расчётливые хозяева в голодное время. Мы остались на дороге с Лёнькой, узлом, половиной картошки и без котла, в котором можно её сварить.
Молча собрались. Молча вновь взгромоздили Лёньку на одноколку, теперь уже с непривычной лёгкостью и пустотой. Толкать стало легче, но скрип колеса звучал иначе – не от натуги, а от какой-то обречённой пустоты.
А через полчаса пути сдалась ось. Деревянная ось, надломленная при перетаскивании через ручей, лопнула с сухим, как выстрел, щелчком. Колесо откатилось в сторону и замерло, как одинокий, бесполезный спутник.
Мы остановились. Все. Мать опустилась на обочину, закрыла лицо руками. Плечи не тряслись – она просто ушла в себя, в эту тишину внутри. Толя и Лёша, красные от стыда и напряжения, смотрели на груду досок и на это колесо.
И тут поднялся Толя. Не старший брат, а вдруг ставший главным мужчиной. Он подошёл к узлу, вытащил верёвку.
– Мам, – сказал он хрипло. – Мы его понесём. На жерди.
Они с Лёшей отломали от рамы одноколки две прямые палки, привязали между ними нашу дерюжную подстилку. Получились носилки. На них усадили Лёньку, привязали его ремнём, сверху водрузили узел. Оставшуюся картошку разделили по котомкам.
Одноколка умерла. Родился поход.
Мать подняла глаза. Взглянула на сыновей, на эти примитивные носилки, на Лёню, который уже утих и с интересом разглядывал новое устройство. Взгляд её был пуст, но в самой глубине теплилась одна мысль: «Живы. Двигаемся. Вместе».
Она встала, отряхнула подол.
– Пошли, – сказала тихо.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.