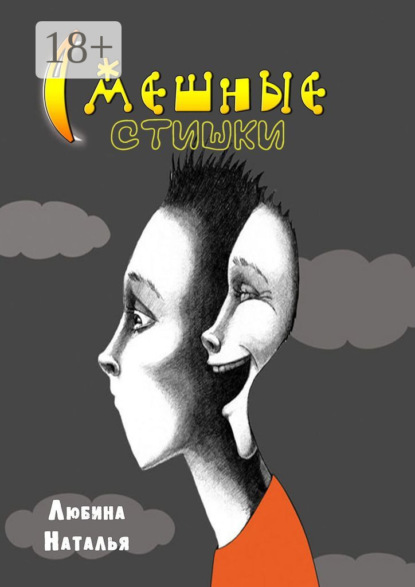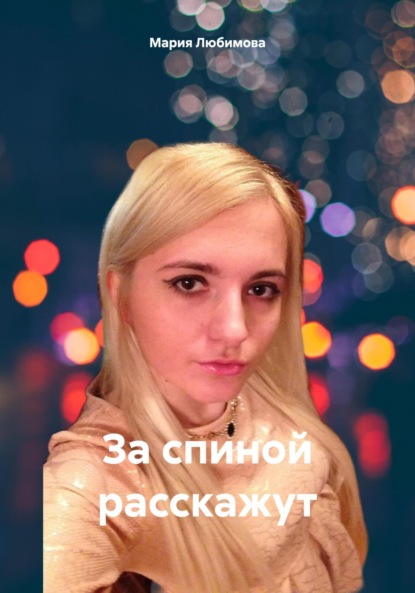Лейтенант Степанов

- -
- 100%
- +

Война кончается не победой.
Она кончается тогда,
когда становится ясно,
кто до неё дожил.
Пролог
Говорят, смерть на войне – это вспышка. Яркая и короткая, как спичка о коробок.
Это неправда. Те, кто так говорит, не видели.
Настоящая смерть – это не вспышка. Это – размыкание. Как если бы в темноте выдернули штепсель из розетки. Сначала ещё горит лампочка накаливания, потом нить остывает, и всё. Тьма.
Между моментом, когда ты есть, и моментом, когда тебя уже нет – лежит не вечность. Это обман чувств. Лежит промежуток. Промежуток, растянутый до немыслимых пределов. В нём нет звука. В нём есть только картинки, выхваченные из темноты, как кадры из заевшей киноленты. Они мелькают медленно, неестественно медленно. От первого крика до последнего вздоха. От корня до кроны.
Но прежде чем попасть в тот промежуток, нужно сделать выбор. Самый простой. Встать. Пойти. Остаться.
Мы шли умирать.
Не за громкие слова на агитплакатах. Не за идеалы, вызубренные на лекциях по истмату.
Мы шли за простоту. За то, чтобы в окно бил утренний луч, а не ослепительная вспышка чужой ракеты. Чтобы грохочущая, железная поступь войны не смяла под себя простые вещи: запах яблок в сентябре, шершавый ствол старой яблони, что сажал ещё дед, тихий смех под ней, когда мы, мальчишками, забирались на самый верх, чтобы увидеть весь наш мир с высоты.
За то, чтобы по нашей земле – пахнущей дождём, полынью и пылью дорог – не топтали чужую, жёсткую подошву. Чтобы под забором не звенела, покатившись, чужая каска. Мы не хотели жить по их уставу. Под их небом.
Мы хотели своего неба. Своей простой, немудрёной жизни. Своего завтрашнего дня.
И если цена этому – остаться здесь, в этой земле, стать её частью, её камнем, её молчаливым корнем… Мы платили. Без счёта.
Потому что это и есть тот самый миг. Мгновение перед размыканием. Когда ты ещё был. Ты стоял на этой земле, ты дышал полной грудью, ты помнил запах полыни и вкус кислого яблока, сорванного с той самой яблони. А через миг – ты становишься былью. Легендой. Памятью. Частью этой самой земли, которую защищал.
Ты смотришь в небо, которое защищаешь, и вдруг понимаешь со страшной ясностью: всё, что было дорого, – оно теперь навсегда. Оно не умрёт вместе с тобой. Оно останется здесь.
И вот тогда приходит не вспышка. Приходит тьма.
И внутри неё, в этом последнем сопротивлении угасающего сознания, начинает крутиться кинолента.
Самая важная. Последняя.
Вся жизнь – за время полёта осколка.
ГЛАВА 1. ЯБЛОНЯ
Война кончилась трое суток назад.
На вторые сутки смолкли последние, уже нестроевые выстрелы – кто палил в небо, кто по бутылкам. Теперь над восточнопрусским городком висела тишина. Густая, непривычная. Лейтенант Андрей Степанов сидел у раскрытого окна штабного домика и ловил себя на мысли, что оглох. Но нет – в ушах стоял звон. Высокий, назойливый. Отзвук четырёх лет. Он въелся в барабанные перепонки, как ржавчина в железо.
На столе стояла жестяная кружка – чай остыл, стал цвета грязи. Рядом лежала потрёпанная полевая сумка, из неё торчал угол последней карты. Секретность с неё сняли вчера. Отчёт о последних боях написан. Писать больше было не о чем. Правая рука, привыкшая к прикладу и телу раненого, лежала на столешнице тяжёлой, чужой.
Он полез в нагрудный карман. Не за фотографией – фотографии сгорели в печурке в первую мирную ночь. Не за партбилетом – тот всегда лежал отдельно. Там была бумажка.
Он вытащил её. Ветхий клочок, пожелтевший от пота, сложенный вчетверо. Разгладил сгибы грубыми пальцами – под ногтями всё ещё сидела фронтовая грязь, не сходившая с сорок второго. Шуршание бумаги прорвало тишину, как одиночный выстрел.
МОСКВА. ПЛАНЕТАРИЙ.
НА ЗВЁЗДНУЮ ПРОГРАММУ.
ОДНО МЕСТО. 16 АВГУСТА 1936.
Чернила выцвели, стали бледно-лиловыми. Он прикрыл глаза и прижал бумажку к переносице. Пахло пылью, махоркой, железом. И ещё – картоном. Тёмным залом. Холодком под куполом.
⸻
Холодок был настоящим.
Ему четырнадцать. Он стоит на эскалаторе, едет вверх из метро – первый раз в жизни. Москва. Каникулы у дяди-железнодорожника. Тогда он приехал с отцом. Теперь – один.
Город грохотал трамваями, но он шёл сквозь грохот, как сквозь шум. Искал одно здание. «Монастырь науки», как говорил отец. «Там, Андрей, всё небо, как на ладони». Емельян Иванович говорил и кашлял в кулак. Тогда кашель казался просто кашлем. Отца не стало год назад.
Планетарий встретил прохладным полумраком и запахом пыли. Он сел, оставив соседнее место пустым, и вцепился пальцами в бархат кресла. Свет погас.
И над ним – нет, вокруг – зажглись звёзды. Не точки – миры. Огненные вихри. Млечный Путь. Голос диктора говорил о бесконечности, о миллионах лет.
У Андрея перехватило дыхание. И сжалось в горле. Потому что в этой бесконечности не было отца. Того, кто должен был сидеть рядом и шептать: «Вон, видишь – Большая Медведица». Вечность оказалась чёрной и пустой. Она глотала всё – Заречное, мамин пирог, могильный холмик на окраине – и не возвращала обратно.
Он не заплакал. Когда зажёгся свет, он положил руку на пустое кресло, а потом быстро, украдкой сунул программку в карман. Не на память о звёздах. На память о том, что рядом никого нет.
⸻
ГРО-О-ХОТ!
Андрей дёрнулся, тело швырнуло от стола, рука сама потянулась к кобуре. Сердце колотилось, давило на рёбра. В глазах потемнело. Опять.
Но это был не обстрел. Это «студебеккер» влетел в кучу немецких ящиков на соседней улице. Грохот железа, треск. А потом – дикий, пьяный смех:
– Ура-а! Мать твою!
Он разжал пальцы, выдохнул. Стыдная слабость поползла от коленей. Война кончилась. А он – нет. Внутри жил отдельный зверёк, который не верил, что можно перестать ждать удара.
В ладони был смятый в комок звёздный билет. Звёзд больше не было. Над головой – низкое, серое, мирное небо чужой страны. Полуразрушенная черепица. И тишина, которая давила сильнее грохота.
Он разгладил бумажку, сложил и убрал обратно, к сердцу. Оно всё ещё билось, отбивая ритм прошедших лет.
За дверью раздался голос адъютанта – молодой, звонкий, ещё без фронтовой хрипоты:
– Товарищ лейтенант! К комдиву. По вопросу представления.
«Представления», – беззвучно повторил Андрей. Его представляли к награде. За что? За то, что другие легли, а он – встал?
– Сейчас, – отозвался он, и голос прозвучал сипло, будто он не говорил несколько дней.
Он поднялся. Суставы скрипнули. Старые раны – под лопаткой и в бедре – тянули, чуя погоду. Перед выходом он глянул в окно. Не в небо – во двор.
Там, среди развороченного кирпича, росла яблоня. Немецкая. Корявая, с одной обгоревшей веткой, но живая. На ней набухали почки – липкие, зелёные. Дерево как дерево. Пережило штурм.
Он вспомнил другой ствол – дуб на краю Заречного, в три обхвата, с дуплом, где в детстве прятал свои «секреты». И голос отца, спокойный, уверенный:
– Дерево, сынок, всё помнит. И засуху, и мороз, и удар молнии. Оно боль не забывает. Оно её в древесину превращает. В сук. В корень. Так и человек.
Андрей провёл пальцами по шраму на щеке – осколок, сорок второй. Поправил гимнастёрку, надел фуражку с выцветшим кантом.
Он и был этим деревом.
Вся война – каждый взрыв, каждый крик, каждый недописанный треугольник – сидела в нём, как годичные кольца. Превратилась в сучья. В корень. В память.
Он направился к двери – получать награду не за подвиг, а за то, что остался в живых.
Нёс в себе немые могилы тех, кто – не остался.
ГЛАВА 2. КУРСАНТ
Москва, конец июня сорок первого.
Воздух над Моховой был густ и тяжёл, как сироп. Парило.
Андрей Степанов, студент-историк, не сдавший ещё две летние сессии, вышел из Главного здания МГУ. В ушах стоял гул – не от жары. От разговоров. Уже два дня говорили все и везде: у репродукторов, в столовой, в коридорах, на лестницах. Говорили громко, срываясь на крик, и тут же замолкали, будто слова внезапно кончались. Оставались одни звуки: «война», «вероломно», «наши уже бьют».
Он шёл по булыжнику, чувствуя, как под тонкой подмёткой ботинка отдаётся вековая твёрдость. Эта твёрдость ещё вчера казалась нерушимой основой всего: лекций, споров в читалке, планов на каникулы. Теперь она звенела пустотой. История, которую он изучал по книгам, настигла его здесь, на этом тротуаре. Не как знание – как давление. Как гул моторов где-то за горизонтом.
Очередь в военкомат тянулась от Арбатских ворот. Пёстрая, потная. Стояли все: аспирант с кафедры классической филологии – тихий, всегда в засаленном пиджаке; розовощёкий первокурсник-математик; сухопарый доцент диамата, не выпускавший трубки изо рта. Курили молча. Андрей искал глазами задиристого парня с геофака, с которым неделю назад чуть не подрался из-за Троцкого. Не нашёл. И вдруг ясно понял: все их вчерашние споры – о базисе, надстройке, роли личности – были лишь игрой. Умной, красивой, но игрой из того мира, что кончился в воскресенье утром.
Его вызвали одним из первых. Два курса университета – это была не заслуга, а показатель.
Усталый капитан в замызганной гимнастёрке пробежал глазами по анкете.
– Степанов… Учился, – сказал он без эмоций. – В строй сразу не пойдёшь. Направление на ускоренные курсы младших командиров.
– Куда именно? – автоматически спросил Андрей.
– Западное направление. Учебная часть. Через месяц – в действующую армию.
Капитан поставил штамп. Бумага хрустнула. Судьба Андрея была решена. Это не называлось «государственной машиной». Это называлось проще: потребность. Фронту срочно нужны были командиры. Его подогнали под эту потребность – как болт под гайку.
⸻
Курсы разместились в полуразрушенном здании педучилища под Малоярославцем. Вместо аудиторий – холодные классы с выбитыми стёклами, заложенными фанерой. Вместо лекций о славянских древностях – «Матчасть стрелкового оружия: от винтовки до пулемёта “Максим”».
Инструктор, старшина Сурков, с лицом в оспинах и голосом, будто горло протёрли рашпилем, орал так, что с потолка сыпалась штукатурка:
– Забудь, студент, что у тебя башка для умных мыслей! Тут она нужна, чтоб приказ от начальства ухватить, а своим салагам – врезать, чтоб наизусть знали! На передке думать будет некогда! Выживешь – пофилософствуешь!
Андрей забывал. С трудом.
Ночью в казарме, пропитанной запахом махорки, пота и кислых портянок, он лежал на жёсткой койке и смотрел в потолок. Глаза, привыкшие выхватывать смысл из строчек летописей, теперь видели в трещинах штукатурки знакомые очертания. Созвездие Большой Медведицы – таким, каким оно было под куполом планетария. Та бесконечность казалась теперь не пугающей, а холодной и безразличной. Она была там. А здесь он учил, под каким углом вонзить штык, чтобы вернее. Не из жестокости – из простой, чугунной арифметики, которую Сурков вбивал кулаком в стол: «Он – или ты. Третьего не дано».
Однажды их выгнали в осеннее поле на практическое занятие по преодолению открытой местности. Нужно было проползти по-пластунски полкилометра под условным огнём. Холостые патроны трещали над головой, пугая до тошноты. Андрей приник к земле. Щека ощутила ледяную влагу, пальцы впились в мокрую, пахнущую гнилыми листьями глину.
И вдруг, с неожиданной ясностью, он вспомнил не лозунг – запах. Запах своей, зареченской земли после дождя. Смесь полыни, влажного чернозёма и яблочной кожуры. И голос отца, Емельяна, у старого дуба:
«Земля, Андрюха, она всё в себя принимает. И дождь, и кровь. Она помнит. Её и защищать надо – не абстракцию какую».
Мысль ударила, как обухом. Он полз сейчас не за социализм и не за мировую революцию. Он полз по этой земле, чтобы та, другая – его, пахнущая яблоками и полынью – не была растоптана чужим сапогом. Чтобы мать могла выйти на крыльцо и не увидеть в небе чёрные кресты на крыльях «Юнкерсов». Это было так просто, что стыдно было произносить вслух. Простота оказалась дороже любой идеологии.
⸻
Перед выпуском им выдали новенькие, пахнущие крахмалом гимнастёрки с петлицами и кубиками в петлицах. Строем вывели на плац. Перед ними встал комиссар курсов – худой, с умными, не по-военному печальными глазами.
– Товарищи младшие лейтенанты, – сказал он негромко. – Выучку вы получили. Минимальную, но достаточную, чтобы не угробить людей в первом же бою по глупости. Запомните: храбрых дураков на фронте хватает. Ваша задача – не только выполнить приказ. Ваша задача – соображать. За себя и за своих бойцов. Голова вам ещё пригодится. Сохраните её.
– Так точно! – ответили хором.
Комиссар обвёл строй взглядом. В нём не было пафоса – только тяжесть человека, который знает, куда их отправляют, и может попросить лишь об одном: не угробить по глупости ни себя, ни других.
⸻
Через неделю младший лейтенант Степанов трясся в теплушке, идущей на Западный фронт. В кармане гимнастёрки лежало комсомольское удостоверение и предписание – без них теперь нельзя было сделать ни шага. Рядом, сложенная вчетверо, хранилась старая бумажка.
Он достал её, разгладил на колене огрубевшими, уже не студенческими пальцами.
МОСКВА. ПЛАНЕТАРИЙ.
НА ЗВЁЗДНУЮ ПРОГРАММУ.
ОДНО МЕСТО. 16 АВГУСТА 1936.
Билет в прошлое, которого больше не было. В мир, где небо служило звёздам, а не бомбам. В мир, где отец был жив, а слово «вечность» означало тему для размышлений, а не то, во что вот-вот шагнёшь, соскочив с подножки теплушки где-нибудь под Вязьмой.
Он сложил билет и спрятал обратно, ближе к сердцу. За окном проносились станции, леса, разбитые эшелоны. Он ехал не за славой. Он ехал потому, что иначе – нельзя. Потому что там, куда прорвались чужие танки, остались его мать, его пустой дом, его яблоня.
Он ещё не знал цены. Не знал, как выглядит смерть не в учебнике, а рядом – когда из человека за минуту уходит всё человеческое. Не знал вкуса командования, когда твой приказ для кого-то становится последним звуком в жизни.
Он знал только одно: обратной дороги на Моховую, в прежнюю жизнь, больше нет. Отныне его аудиторией будет окоп, его конспектами – карты с карандашными пометками, а его дипломной работой – умение пройти через ад и, если повезёт, остаться в живых. И не сойти с ума.
Теплушка стучала колёсами, выбивая простой, безжалостный ритм:
свой – чужой, свой – чужой…
Андрей закрыл глаза и попытался удержать в памяти не звёзды из планетария, а простое, тёплое, земное солнце на листьях той самой, зареченской яблони. Это был его последний, самый важный секрет, который он нёс с собой в огонь.
ГЛАВА 3. ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ
Туман держался до самого рассвета.
Он лежал между стволами, холодными и влажными, и чувствовал, как сырость медленно, настойчиво пробирается под гимнастёрку. Земля принимала тепло неохотно. Андрей поймал себя на том, что считает вдохи. Не чтобы успокоиться – чтобы не дать мыслям разбежаться.
Где-то впереди снова хрустнуло. На этот раз ближе. Не ветка – шаг. Осторожный, пробный.
Он приподнял ладонь, показал вниз. Лежать.
Взвод застыл. Тишина стала плотной, почти осязаемой. В ней вдруг отчётливо проступили мелочи: собственное дыхание, тяжесть каски на лбу, зуд под ремнём. И странное, почти бытовое ощущение – всё сейчас начнётся.
Выстрел прозвучал не так, как он представлял.
Не громко. Не оглушительно. Коротко, сухо, будто кто-то резко сломал сухую палку. Потом – второй. Потом сразу несколько, вразнобой. Туман дрогнул, словно от толчка изнутри.
– Огонь! – крикнул он и сам удивился своему голосу. Он был чужой. Резкий. Командирский.
Взвод ответил. Не залпом – каждый по-своему. Кто-то слишком быстро, кто-то с паузой, кто-то, наоборот, замешкался, словно проверяя: это правда? Пули ушли в молоко, в белизну, в неизвестность. Стреляли не по людям – по страху.
Ответ пришёл почти сразу. Над головой прошёлся длинный, ровный треск – очередь. Земля рядом вздрогнула, брызнула комьями. Кто-то вскрикнул – коротко, удивлённо.
– Лежать! – заорал Кузьмин. – Не вставать!
Андрей видел только спины, плечи, каски. Лиц не было. Туман съел всё лишнее. Мир сузился до нескольких метров, до линии земли перед глазами.
Он пополз вдоль цепи, прижимаясь к почве. Рука легла на чьё-то плечо. Дёрнул вниз.
– Жив?
– Жив… – ответили сипло.
Ещё очередь. Уже ближе. Немцы стреляли спокойно, уверенно, экономя патроны. Не кричали. Не суетились. Это пугало сильнее крика.
– Не высовываться! – крикнул он. – По вспышкам! Коротко!
Слова выходили сами. Он не думал о них. Он делал то, чему учили, и то, что подсказывало что-то более древнее, чем устав. В голове не было образов. Только задачи.
Слева кто-то вдруг поднялся – на секунду, не больше. И тут же рухнул, будто ему выбили опору из-под ног. Каска покатилась, звякнула о корень.
Андрей замер. Подполз. Лицо бойца было открытое, совсем мальчишеское. Глаза смотрели в туман, уже не видя. На губах – что-то похожее на удивление.
Он хотел закрыть глаза, но не стал. Некогда.
– Кузьмин! – крикнул он. – Левый край – держать! Не отходить!
Ответа не было. Только кивок из темноты.
Стрельба стихла так же внезапно, как началась. Немцы не лезли. Проверили – и отошли. Или затаились. Это было хуже всего: не знать.
Туман начал редеть. Медленно, нехотя. Пространство возвращалось по кускам: дерево, куст, канава, тело.
Андрей сел на корточки, вытирая грязной ладонью лицо. Пальцы дрожали. Он не пытался их унять. Пусть. Это пройдёт.
– Потери? – спросил он.
– Двое… – сказал Кузьмин. – Один – сразу. Второй… – он махнул рукой. – Унёс.
Андрей кивнул. Двое. Не взвод. Не рота. Всего двое. Разум говорил: повезло. Что-то внутри отвечало: началось.
Он посмотрел туда, где лежал первый убитый. Туман окончательно рассеялся, и утреннее солнце, то самое – земное, тёплое – пробилось сквозь ветви. Оно легло на траву, на шинель, на неподвижное лицо.
Солнце было неуместным. Оскорбительным. Оно светило так же, как светило в Заречном, на листья яблони, когда он был мальчишкой. Как будто ничего не изменилось.
Андрей отвернулся.
– Собраться, – сказал он. – Проверить оружие. Ждём приказа.
Бойцы зашевелились. Тихо. Осторожно. Уже иначе, чем ночью. В их движениях появилась новая тяжесть – не от усталости. От знания.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.