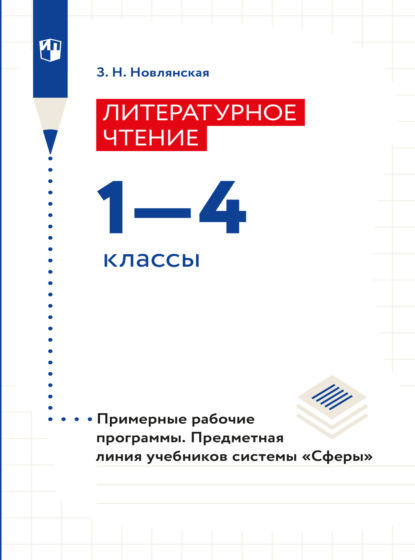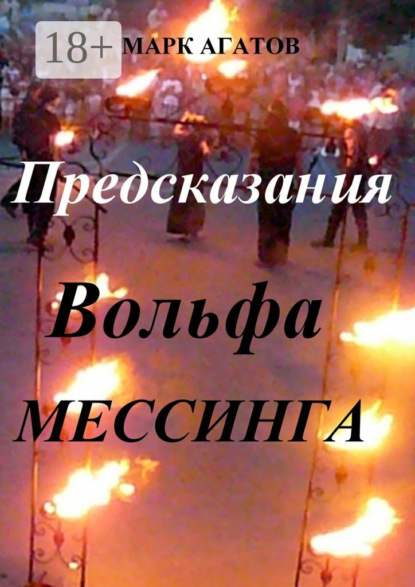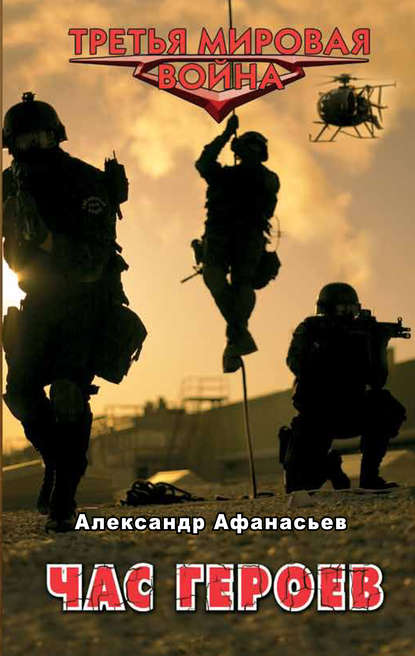Разорвать цепи: преодоление психологического насилия.
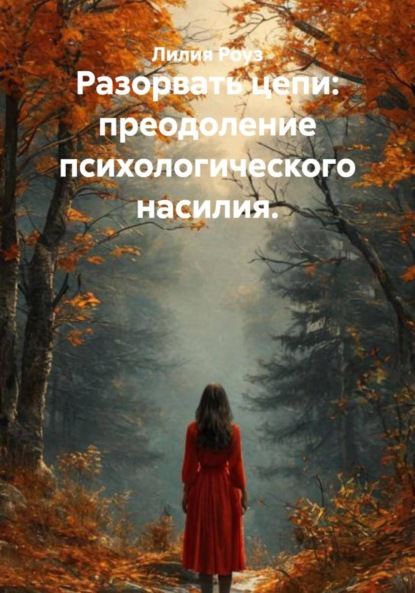
- -
- 100%
- +
Эпизод насилия почти всегда сопровождается переворачиванием смысла происходящего. Агрессор не воспринимает себя виноватым, даже если очевидно, что реакция несоразмерна ситуации. Напротив, он объясняет свою вспышку тем, что его «довели», что ему «устроили провокацию», что он «сто раз предупреждал». Он может перечислять старые обиды, напоминать ситуации, в которых жертва якобы «не проявила уважения», «поставила себя выше», «подвела». В этот момент смыслом происходящего становится не поиск решения, а закрепление власти. Насилие – это демонстрация силы, и она обязательно должна быть оправдана.
Жертва в такой ситуации переживает целую гамму чувств. Сначала – шок, особенно если эпизод произошёл неожиданно. Потом – страх, в том числе телесный: учащённое сердцебиение, дрожь, слабость, головокружение. Затем – стыд и вина: хочется исчезнуть, перестать быть обузой, не вызывать больше такого гнева. Если насилие повторяется регулярно, то к этим эмоциям добавляется смутное ощущение, что что-то глубоко неправильно, но назвать это по имени трудно. Ведь вслед за эпизодом часто приходит то, что делает цикл особенно крепким – стадия «медового месяца».
После вспышки агрессии напряжение спадает. Агрессор может сам почувствовать временное облегчение: его внутренний пар сброшен, накопленные эмоции выплеснуты наружу. Он может даже испытать кратковременный стыд, особенно если увидел слёзы, физическую дрожь, растерянность жертвы. Иногда он извиняется, иногда нет, но его поведение заметно смягчается. Может прозвучать, что он «перегнул палку», «устал», «сорвался», что «так больше не хочет». Жертва в это время настолько истощена внутренне, что готова ухватиться за любой знак примирения.
Начинается фаза примирения, которую многие описывают как новый медовый месяц. Агрессор может стать особенно внимательным, заботливым, нежным. Он говорит правильные слова, обещает меняться, просит довериться ему ещё раз. Может покупать подарки, устраивать совместные выходы, неожиданно выполнять давние просьбы. Некоторые люди в такие периоды буквально не узнают своего партнёра: тот, кто ещё вчера унижал и кричал, сегодня кажется идеальным, понимающим, спокойным. Контраст между болью и облегчением настолько велик, что мозг захватывают чувства почти эйфорические.
Для нервной системы это похоже на сильный перепад. Во время эпизода насилия тело работает в режиме угрозы: активируется стрессовая реакция, выбрасываются гормоны, связанные с опасностью, срабатывает древний механизм «бей или беги», хотя в ситуации психологического насилия чаще приходится «замирать». Затем, когда агрессия сменяется мягкостью, наступает релаксация. Организм получает сигнал, что опасность миновала, напряжение спадает, выделяются другие вещества, связанные с ощущением связи и близости. Контраст между ужасом и облегчением укрепляет ассоциацию: тот, кто ранил, одновременно и успокаивает.
Именно здесь рождается феномен травматической привязанности. Это не просто эмоциональная зависимость, не просто сильная любовь или увлечение. Это связь, которая скрепляется повторяющимся чередованием боли и облегчения. Человек, подвергающийся насилию, со временем начинает воспринимать редкие периоды тепла как доказательство того, что «всё не так плохо», «глубоко внутри он хороший», «у нас всё ещё есть шанс». Чем болезненнее были эпизоды насилия, тем более драгоценными кажутся моменты примирения. Они переживаются буквально как спасение: вот, всё закончилось, всё ещё может наладиться.
Эта привязанность отличается от здоровой любви тем, что держится не на стабильности, а на контрастах. В гармоничных отношениях тоже бывают конфликты, но они не разрушают базового чувства безопасности. Даже если партнёры ругаются, никто не ставит под сомнение ценность другого как личности, никто систематически не использует его ранимые места против него, никто не подвергает сомнению его право на чувства и мнение. После конфликта в здоровых отношениях наступает не медовый месяц, а просто восстановление нормального, устойчивого контакта. Привязанность при этом не основана на страхе потерять остатки хорошего, потому что хорошее является нормой, а не редкой наградой.
При травматической привязанности всё наоборот. Норма – это тревога, ожидание, неустойчивость. Человек привыкает жить в состоянии постоянной внутренней готовности к тому, что сейчас последует смена фазы. Если слишком спокойно, становится даже не по себе. Сознание может этого не замечать, но тело реагирует: может быть трудно расслабиться, возникают бессонница, навязчивые мысли, ожидание «чего-то плохого». И когда в очередной раз начинается напряжение, а за ним вспышка, внутри это оказывается почти привычным, даже если всё ещё очень больно.
Мозг и нервная система устроены так, что стремятся к предсказуемости. Даже если предсказуемость связана с болью, она воспринимается как более безопасная, чем полная неопределённость. Цикл насилия даёт как раз эту предсказуемость. Он повторяется снова и снова, формируя в психике устойчивый след, как натоптанная тропинка в лесу. Каждый виток укрепляет убеждение, что так «устроена любовь», что близость неизбежно связана с болью, что терпеть – это часть отношений.
Важно, что на стадии «медового месяца» жертва часто испытывает не только облегчение, но и мощный подъём надежды. Ей кажется, что именно теперь, после очередного кризиса, всё изменится, что агрессор наконец-то понял, что зашёл слишком далеко, что это был последний раз. Эти надежды подпитываются обещаниями, «откровенными разговорами», клятвами в том, что «ты слишком важен для меня, я не хочу тебя терять». Слова могут звучать искренне, и иногда в них действительно есть доля искренности: агрессор в этот момент тоже чувствует страх потерять контроль, потерять связь, которая удовлетворяет его потребность в власти, признании, эмоциональной подпитке.
Но без глубокой внутренней работы и ответственности за своё поведение ничто не меняется. Через какое-то время напряжение начинает накапливаться снова. Возможно, сначала медленнее, чем в прошлый раз, возможно, с попытками сдерживаться, но внутренние механизмы остаются теми же. Агрессору снова что-то не нравится, снова каждая мелочь раздражает, снова в голове копится список претензий, которые должны однажды выплеснуться. И цикл повторяется. С каждым витком надежды на изменение становится всё меньше, но и сил на разрыв тоже меньше: травматическая привязанность уже пускает корни.
Почему же такая привязанность оказывается порой сильнее обычной любви? Одна из причин в том, что она цепляет самые древние структуры психики, связанные с выживанием. Человек, находящийся в цикле насилия, одновременно воспринимает партнёра как угрозу и как источник спасения. Тот, кто причиняет боль, тут же становится и тем, кто эту боль снимает. Нервная система реагирует так, словно рядом не просто близкий человек, а фигура, от которой зависит само существование. Это похоже на ранние детские переживания, когда ребёнок полностью зависим от родителей, даже если они ведут себя непоследовательно и жестоко.
Если в детстве уже был опыт нестабильной привязанности, когда взрослый мог то обнимать, то отталкивать, то хвалить, то стыдить, то защищать, то игнорировать, то в взрослой жизни цикл насилия ложится на знакомую основу. Психика словно узнаёт этот ритм. Здесь тоже есть непредсказуемость, страх, но и мощная тяга к фигуре, от которой зависит эмоциональное состояние. Поэтому эмоциональные качели в настоящих отношениях воспринимаются не как сигнал опасности, а как что-то странно родное.
Биологическая сторона процесса тоже играет свою роль. Во время стрессовых эпизодов в кровь выбрасываются гормоны, связанные с тревогой, страхом, мобилизацией. Сердце бьётся быстрее, мышцы напрягаются, дыхание учащается. После этого, когда наступает фаза примирения, в организме активируются другие системы: расслабление, ощущение тепла, иногда физическая близость. Выделяются вещества, усиливающие чувство привязанности, успокаивающие нервную систему. Такой контраст запускает сложные ассоциации: мозг связывает появление облегчения именно с этим человеком, который сначала создаёт угрозу, а затем её снимает.
Если такие круги повторяются много раз, нервная система начинает ожидать подобных качелей. Спокойствие начинает казаться странным. Человек может выбирать других людей, с которыми тоже возникает напряжение, лишь бы не ощущать внутренней пустоты. Там, где есть стабильность, ему скучно, непонятно, что делать с собой, как жить без постоянных «эмоциональных огней». Травматическая привязанность превращается в своеобразный шаблон, по которому выстраиваются новые связи. Даже если конкретные люди меняются, внутренний сценарий остаётся прежним.
Ещё один важный момент связан с тем, как жертва объясняет себе происходящее. Чтобы выдерживать насилие и не разрушаться окончательно, психика ищет для происходящего смысл. Иногда он находится в идее, что человеку «дано» это испытание для духовного роста. Иногда – в уверенности, что агрессору очень тяжело, что он сам глубоко травмирован, и значит, его нужно понять и спасти. Иногда – в вере в «единственность» этих отношений, в убеждении, что никто другой не даст того, что даёт этот человек в редкие хорошие моменты.
Любое объяснение, которое сохраняет связь, одновременно сохраняет и цикл. Признать происходящее насилием трудно, потому что тогда возникает необходимость что-то менять: выходить, защищаться, ставить жёсткие границы. А это страшно. Проще оправдать агрессора, чем столкнуться с масштабом угрозы. Так травматическая привязанность растёт не только на биологических реакциях, но и на системе убеждений.
Мозг, привыкший к повторению одних и тех же событий, начинает фильтровать информацию. Он словно выделяет те факты, которые подтверждают надежду, и отодвигает те, что мешают ей. Человек может отчётливо помнить моменты нежности и заботы, пересматривать их в памяти, бережно к ним возвращаться. В то же время эпизоды насилия отодвигаются на периферию сознания, объясняются внешними обстоятельствами, временной «потерей контроля», тяжёлым характером. Так создаётся иллюзия, что хорошего всё-таки больше, а плохое – лишь неприятное, но терпимое сопровождение.
Однако тело помнит всё. Даже если сознание пытается забыть, сгладить, найти оправдания, нервная система реагирует на малейшие сигналы. Стоит агрессору изменить интонацию или выражение лица, как внутри всплывает знакомый холодок. Сердце начинает биться чаще, дыхание сбивается, в мышцах возникает напряжение. Человек может не связывать это напрямую с воспоминаниями, но живёт в постоянной готовности. Это состояние привыкания к опасности и одновременно невозможности из неё выйти и есть один из самых тяжёлых последствий травматической привязанности.
Цикл насилия тем коварен, что на каждом витке он оставляет всё больше следов. Напряжение учит осторожности, эпизоды насилия пробивают новые трещины в самооценке, «медовый месяц» всё крепче приковывает к агрессору. Постепенно человек начинает верить, что без этих качелей он не сможет жить, что только эта связь делает его жизнь наполненной, что никто больше не выдержит его «сложного характера» и «болезненных особенностей». Это не каприз и не мазохизм, а результат серьёзных изменений в психике и нервной системе, привыкших жить на грани.
Понимание цикла насилия и природы травматической привязанности важно не для того, чтобы обвинить жертву в «соглашательстве», а чтобы увидеть, насколько мощные силы действуют внутри этих отношений. Человек не остаётся рядом с агрессором просто потому, что слаб или глуп. Он связан с ним множеством невидимых нитей: биологических, эмоциональных, когнитивных. Его мозг, его тело, его система убеждений, его прошлый опыт – всё словно сотрудничает в том, чтобы сохранить знакомый круг, даже если этот круг разрушает. И первый шаг к тому, чтобы когда-нибудь сделать другой выбор, начинается с того, чтобы увидеть: это повторяющаяся схема, а не судьба, и то, что стало привычным, не обязательно является нормальным.
Глава 5. Детство, которое не отпускает: корни уязвимости
Когда взрослый человек снова и снова оказывается в отношениях, где его обесценивают, контролируют, пугают или стыдят, он часто задаётся мучительным вопросом: почему именно со мной это происходит. На поверхности находятся очевидные объяснения: не повезло, попался такой партнёр, «ошибся с выбором». Но если остановиться и всмотреться глубже, выясняется, что многие реакции, с которыми мы входим во взрослые связи, были сформированы гораздо раньше – в те годы, когда мы были полностью зависимы от взрослых, которые нас растили. Детство не заканчивается в момент, когда мы получаем паспорт. Его незавершённые истории продолжают жить внутри, определяя, что мы считаем нормой, на что закрываем глаза, чем готовы жертвовать и где вообще видим границы возможного обращения с собой.
Сам факт того, что человек родился в семье, не гарантирует ему опыта эмоциональной безопасности. Можно быть накормленным, одетым, ходить в школьную форму по расписанию и при этом расти в эмоциональной пустыне. Эмоциональное пренебрежение редко выглядит как явная жестокость. Чаще – как постоянное недослышанное «я», как отсутствие отклика на внутренний мир ребёнка. Родители могут выполнять все внешние обязанности, но не видеть, что с ним происходит внутри. Когда он чем-то делится, его перебивают, торопят, переводят разговор на свои темы. Когда он растерян или напуган, его призывают «не выдумывать». Когда он радуется, его эмоции игнорируют, словно они лишние и никому не интересны.
Ребёнок, которому регулярно дают понять, что его чувства необязательны, очень быстро усваивает, что говорить о своём внутреннем мире бессмысленно. Ему никто не скажет прямо: «твои переживания не важны». Но множество мелких эпизодов – торопливое «потом поговорим», усталое «не сейчас», раздражённое «надоело слушать ерунду», холодное молчание в ответ на слёзы – складываются в ясный вывод: лучше спрятать, чем показать. Таким образом зарождается привычка прерывать себя, не доверять своим желаниям, задавливать вопросы и просьбы ещё до того, как они обретают слова.
Строгие или холодные родители добавляют к этому ещё один слой. Строгость может быть разной. Там, где она сочетается с теплом, ясными объяснениями и уважением, ребёнок учится рамкам, не теряя чувства ценности. Но когда строгость превращается в главное средство воспитания и подменяет собой живой контакт, ребёнок сталкивается с миром, где любое отклонение от ожиданий карается. Ошибка становится не частью обучения, а поводом для стыда. Непослушание воспринимается не как естественная попытка отстоять самостоятельность, а как личное оскорбление родителя.
Холодность родителей может быть ещё разрушительнее открытой грубости, потому что она оставляет ребёнка один на один с пустотой. Грубость хотя бы даёт сигнал: ты есть, ты вызываешь реакцию, пусть и болезненную. Холод – это как будто сообщение: тебя как будто нет. Родитель, который всегда занят, который отвечает минимально и будто через стекло, который не смотрит в глаза и не интересуется тем, что происходит в душе ребёнка, формирует у него глубокое чувство невидимости. Такой ребёнок растёт с ощущением, что к нему трудно привязаться, что он сам по себе не вызывает интереса, что, чтобы его заметили, нужно сделать что-то особенное, заслужить, доказать, исправить себя.
В основе всего этого лежит тип привязанности, который складывается в раннем взаимодействии с важными взрослыми. Если эти взрослые были в целом надёжны, эмоционально доступны, могли утешить, когда больно, и выдержать эмоции ребёнка, когда он злится или плачет, то внутри формируется ощущение, что мир в принципе безопасен, а сам человек достоин того, чтобы о нём заботились. Это не значит, что всё было идеально или что конфликтов не было. Но общая линия была такова: даже если ругают, даже если злятся, ты всё равно любим и важен.
Небезопасная привязанность – это когда эта общая линия отсутствует. Когда ребёнок не уверен, последует ли утешение, когда он заплачет, или наоборот – его осмеют и оттолкнут. Когда сегодня его хвалят и обнимают, а завтра наказывают за ту же самую реакцию. Когда родитель то растворяется в его проблемах, то резко исчезает, когда он особенно нужен. В такой атмосфере рождается постоянное внутреннее напряжение. Ребёнок живёт в ожидании следующего хода взрослого, пытаясь угадать, какой он будет. Его собственные чувства становятся не опорой, а источником угрозы: если я покажу, что мне плохо, меня могут добить, если покажу, что что-то хочу, мне могут отказать или высмеять.
Так формируется то, что можно назвать внутренней картой отношений. Она не записана словами, но из множества переживаний складывается общая схема: другие люди – непредсказуемы; любовь – нечто хрупкое, её можно потерять, если быть «неправильным»; за близость нужно платить отказом от себя; безопасность – не внутренняя опора, а редкие моменты облегчения между вспышками боли. С этой картой ребёнок вырастает и шагает в мир, принимая ее за естественное устройство отношений.
Когда такой человек во взрослом возрасте встречает кого-то, кто обращается с ним бережно и последовательно, это может вызывать не только радость, но и тревогу. Стабильность кажется странной, подозрительной, непривычной. Внутри возникает вопрос: а где подвох, когда начнётся настоящая часть, где меня проверят на прочность, устроят испытание, накажут за расслабленность. И если рядом оказывается агрессор с его эмоциональными качелями, с чередованием обольщения и обесценивания, то это, как ни парадоксально, воспринимается как более знакомый, а значит – более понятный сценарий.
Детские сценарии продолжают работать во взрослом мире почти автоматически. Если в детстве любовь приходила вместе с условием «будь удобным», человек бессознательно продолжит искать таких партнёров и друзей, рядом с которыми ему придётся угадывать ожидания, подстраиваться, подгибать себя. Если в детстве его часто стыдили за эмоции, он будет тянуться к тем, кто внешне сдержан и холоден, кто будет заставлять его снова и снова оправдываться за «слишком сильные реакции». Если близкие в детстве были непредсказуемы, он может спутать предсказуемость с скукой и оттолкнуть тех, кто способен на спокойную, уважительную связь.
Эмоциональное пренебрежение в детстве особенно коварно потому, что его трудно осознать как травму. Когда у ребёнка нет явных историй насилия, когда никто не кричал, не поднимал руку, не закрывал в тёмной комнате, ему кажется, что у него «всё было нормально». Он может даже идеализировать своих родителей, часто повторяя, что его «никто не бил, кормили, одевали», и потому не принимать всерьёз своё собственное чувство внутренней пустоты. Но взрослый человек, выросший в эмоциональном вакууме, нередко оказывается неспособным признать свои потребности и заявить о них без ужаса и стыда. Он склонен считать себя «слишком требовательным» просто потому, что хочет элементарной поддержки.
Если ребёнок в ответ на боль слышал: «перестань плакать, иначе дам настоящую причину для слёз», то он вырастет с убеждением, что выражать уязвимость опасно. Если на его страхи отвечали фразами «ничего страшного, разнылся», он научится не доверять собственным ощущениям угрозы и во взрослой жизни может игнорировать явные красные флаги, уверяя себя, что «преувеличивает». Если его радость постоянно остужали словами «не радуйся раньше времени», он привыкает подрезать свои желания и успехи, чтобы никого не раздражать.
Внутри такого человека постепенно формируется фигура, которую можно назвать внутренним критиком. Это не просто совесть или здравый смысл, это жесткий внутренний голос, который оценивает, осуждает, обесценивает практически каждый шаг. Он говорит теми интонациями, которыми когда-то с ребёнком разговаривали значимые взрослые. Повторяет знакомые фразы: «ты опять всё испортил», «кому ты такой нужен», «перестань вести себя как маленький», «ты ничего не доводишь до конца», «с тобой невозможно», «ты всех утомил». Со временем этот голос становится настолько привычным, что человек перестаёт различать, где его собственные мысли, а где – наследие родительских и культурных посланий.
Внутренний критик питается токсическим стыдом. Стыд – это чувство, которое говорит не о том, что я сделал что-то плохое, а о том, что плохой есть я сам. В здоровом варианте стыд помогает нам осознать ошибки и скорректировать поведение, оставаясь при этом в контакте с собственным достоинством. Токсический стыд лишает этой опоры. Он превращает любую ошибку в доказательство собственной никчёмности, любую слабость – в повод считать себя не имеющим права на любовь. Человек, живущий под грузом такого стыда, постоянно ощущает, что с ним «что-то не так» на фундаментальном уровне.
Ребёнок не может не любить своих родителей, какими бы они ни были. Но ему очень страшно жить в постоянном напряжении и ощущении собственной плохости. Чтобы хоть как-то защититься от ужаса, он часто принимает неосознанное решение: «они хорошие, это со мной что-то не в порядке». Такая логика позволяет сохранить образ родителей как людей, на которых можно опереться, но ценой собственного самоощущения. Вместо того чтобы сказать: «со мной поступают жестоко, несправедливо», он говорит: «я плохой, я заслуживаю такого обращения». Это убеждение сохраняется и во взрослом возрасте, делая человека особенно уязвимым для тех, кто готов использовать его склонность обвинять себя.
Во взрослой жизни внутренний критик и токсический стыд играют на стороне агрессора. Когда партнёр обесценивает, говорит, что вы «слишком чувствительны», «слишком много хотите», «ничего не понимаете», этот внутренний голос охотно подхватывает и усиливает эти слова. Он вторит: «конечно, это ты неправ, ты же всегда что-то не так делаешь». Даже если другая часть психики протестует, говорит, что происходящее несправедливо, критик быстро заглушает её, указывая на прошлые ошибки и слабости. В результате жертве психологического насилия гораздо проще поверить, что она сама виновата, и продолжать оставаться там, где её разрушают.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.