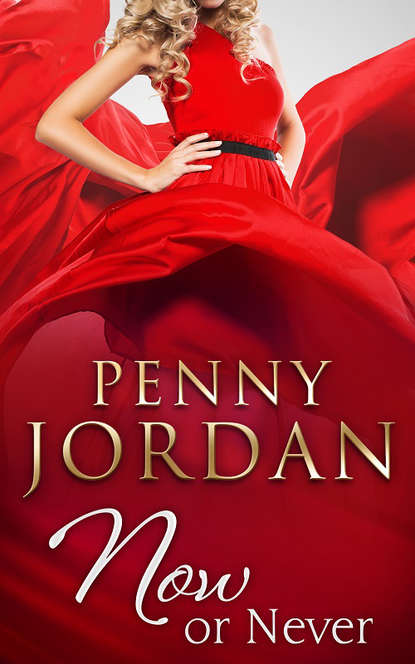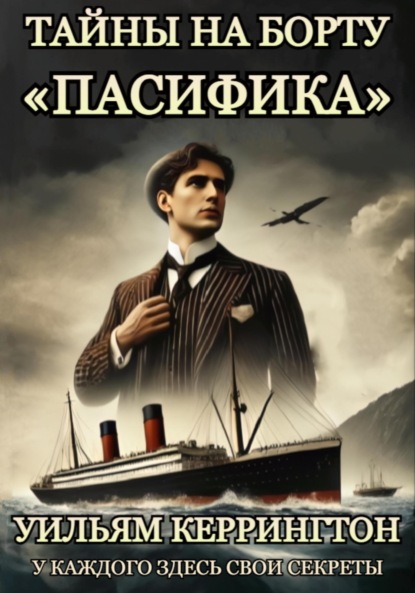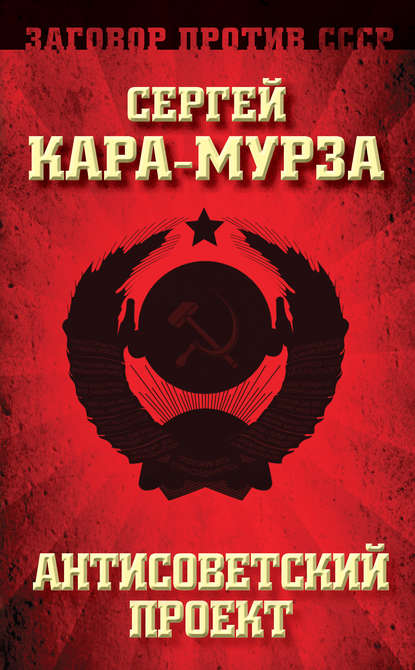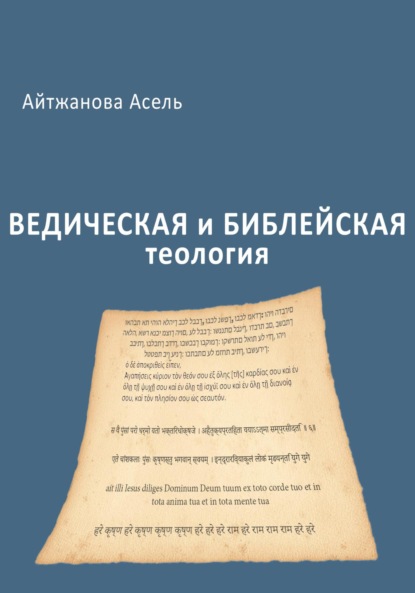Забытая личность: как восстановить себя после абьюза.
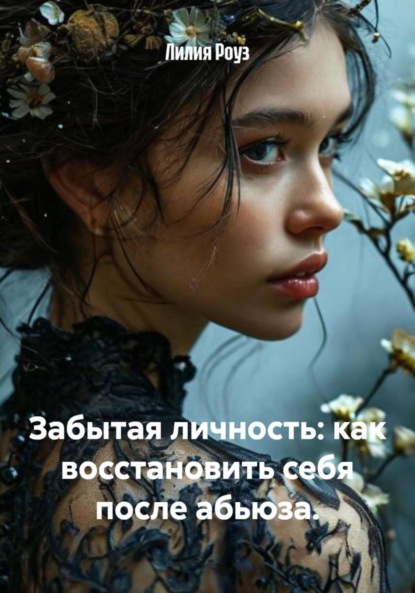
- -
- 100%
- +
Карта абьюза не освобождает от боли мгновенно, не решает вопрос, что делать дальше, но она убирает один из самых мучительных элементов – ощущение собственной «ненормальности». То, что с вами происходило, вписывается в известные схемы. Это значит, что вы не единственная, не странная, не «слишком драматичная». Это значит, что ваши реакции понятны в контексте тех условий, в которых вы жили. И из этого понимания постепенно может рождаться новое отношение к себе: более уважительное, более мягкое, менее пропитанное самоненавистью.
Когда у человека появляется карта, он всё ещё может находиться в сложной местности, в опасном районе, в запутанном лабиринте. Но он уже знает, где повороты, где тупики, где повторяющиеся ловушки. Он может всё ещё ходить по привычному кругу, но каждая новая петля уже не кажется непостижимой судьбой. Появляется возможность однажды заметить: я опять на том же месте, я знаю, как сюда попала, и это знание – первый шаг к тому, чтобы поискать другие дорожки.
Так постепенно хаос, в котором вы жили, обретает очертания. То, что раньше казалось просто «сложным характером», «непростыми отношениями», «моей неумелостью», становится частью большой картины, в которой видно главное: здесь есть насилие. Оно принимает разные формы, повторяется циклами, разрушает границы и самооценку, создаёт зависимость и ощущение безвыходности. И если это можно увидеть и описать, значит, уже не всё потеряно. Там, где появляется карта, появляется и возможность однажды выйти за её пределы.
Глава 3. Тело помнит: физические и соматические следы травмы
Иногда кажется, что всё уже в прошлом. Человек больше не живёт с абьюзером, не слышит его голоса, не видит его лица, не чувствует рядом его шагов. Жизнь вроде бы изменилась: новый дом, другая работа, другие люди вокруг. Можно просыпаться без страха, что сейчас начнётся скандал. Но тело, в отличие от разума, не умеет просто поставить точку и сказать: «всё закончилось». Оно продолжает жить так, как привыкло в период опасности. И даже если разум убеждает вас, что теперь всё хорошо, тело отвечает бессонницей, внезапными приступами тревоги, напряжением в мышцах, болями, усталостью, которые невозможно объяснить обычной логикой.
Тело помнит не словами и не образами, а ощущениями. Оно хранит в себе состояние, в котором вам приходилось жить долгое время: быть настороже, следить за интонацией, угадывать настроение по звуку открывающейся двери, сжиматься от громкого хлопка, подстраиваться под чужие требования. Всё это – не абстрактные описания, а вполне конкретные реакции нервной системы, гормональной системы, мышц, внутренних органов. И если долго жить в режиме опасности, организм начинает вести себя так, будто опасность никуда не исчезала, даже когда объективно вокруг уже всё спокойно.
Многие люди, пережившие абьюз, описывают ощущение хронического напряжения, как будто всё тело сжато в невидимый кулак. Плечи постоянно приподняты, шея словно каменная, в спине жжёт или тянет. Головные боли становятся привычными, ноющие, навязчивые, иногда похожие на тугой обруч вокруг головы. В мышцах как будто застряла память о каждом моменте, когда приходилось сдерживаться, не плакать, не кричать, не защищаться, не убегать. Плотно сжатая челюсть, скрип зубами во сне, привычка втягивать живот и задерживать дыхание – всё это не случайные особенности, а следы того, что когда-то вы очень долго жили, не давая себе расслабиться полностью.
Проблемы со сном – ещё один частый спутник пережитого насилия. Кто-то долго не может уснуть, перебирая в уме бесконечные сценарии, фразы, воспоминания. Как только наступает тишина, в которой можно было бы отдохнуть, внутренняя тревога наоборот усиливается. Мозг, привыкший постоянно быть настороже, воспринимает расслабление как потенциальную опасность: если я расслаблюсь, меня застанут врасплох. Поэтому вместо сна приходят тревожные мысли, навязчивые картины, усиленная чувствительность к любым звукам.
Кому-то удаётся заснуть, но сон становится поверхностным и прерывистым. Любой шорох, лёгкий звук с улицы, сообщение на телефоне – и человек мгновенно просыпается, как будто его кто-то толкнул. Ночью может казаться, что сердце бьётся слишком быстро, дыхание сбивается, в теле ощущается дрожь или жар. Бывают кошмары, в которых вы снова и снова переживаете сцены из прошлых отношений или похожие по атмосфере ситуации: кто-то кричит, обвиняет, преследует, вы пытаетесь убежать, но ноги словно не слушаются. Просыпаясь после такого сна, вы чувствуете себя не отдохнувшей, а как будто пробежавшей марафон.
Панические атаки становятся для многих людей неожиданным проявлением травмы. Они могут начаться уже после того, как абьюз закончился, когда, казалось бы, наконец-то можно расслабиться. Сердце внезапно начинает биться чаще, в груди возникает сдавленность, руки и ноги холодеют или, наоборот, покрываются липким потом. Дыхание становится неглубоким, в голове мелькает мысль, что сейчас вы сойдёте с ума или умрёте. Состояние кажется абсолютно реальной угрозой, хотя с точки зрения медицины в этот момент с организмом не происходит ничего смертельного. Но для тела это как будто повторение старой тревоги: оно воспринимает какой-то внешний или внутренний сигнал как знак опасности и запускает всю ту же защитную реакцию, которая когда-то помогала вам выжить в абьюзивной среде.
Порой тело говорит о пережитой травме через боли, для которых врачи не находят однозначных объяснений. Анализы хорошие, обследования не показывают серьёзных нарушений, а человеку всё равно плохо. Болит спина, ломит суставы, сжимает желудок, сложно дышать полной грудью. Такие состояния часто списывают на «нервы», но за этим лёгким словом скрывается сложная связь психики и тела. Ваш организм не придумал боль из ничего, он нашёл способ выразить то, что долго было вытеснено, то, чему не находилось места в словах и слезах.
Нарушения пищевого поведения тоже могут быть следом травмы. Кто-то начинает заедать тревогу, не замечая, как рука тянется к еде каждый раз, когда внутри становится пусто или страшно. Момент еды даёт краткий всплеск успокоения, даёт ощущение наполненности, но за ним часто следует вина, тяжесть, недовольство собой. Другой человек, наоборот, теряет аппетит: еда перестаёт приносить удовольствие, кажется лишней, в горле будто стоит ком. Тогда организм привыкает существовать на минимуме ресурсов, а усталость становится постоянным фоном. За перееданием и недоеданием часто стоит одно и то же стремление – хоть как-то контролировать ситуацию, хоть как-то управлять состоянием, когда всё остальное кажется неподвластным.
Постоянная усталость после абьюза имеет особый оттенок. Это не та усталость, которая приходит после насыщенного рабочего дня или физической нагрузки и сменяется приятным расслаблением. Это ощущение, будто каждая мелочь требует от вас непомерных усилий. Встать с кровати, принять душ, приготовить себе простую еду, ответить на сообщения – всё это может восприниматься как тяжёлые задачи. Даже если вы ничего особенного не делали, к вечеру чувствуете себя выжатой. Это не лень и не слабость, это следствие того, что долгое время ваша нервная система работала на пределе, а теперь ей нужно гораздо больше времени, чтобы восстановиться.
Фраза «жить на пределе» очень точно описывает состояние человека, который долго был в опасной или непредсказуемой эмоциональной среде. Представьте, что где-то глубоко внутри у вас есть невидимый индикатор, показывающий общий уровень стресса. В спокойной жизни он то поднимается, то опускается, давая организму время на восстановление. Но если вы живёте рядом с человеком, от которого можно ожидать вспышки агрессии, холодного отвержения, обесценивания, этот индикатор почти всё время стоит на высокой отметке. Вы как будто всё время стоите на краю лестницы, где-то на самом верху, и боитесь сделать неверный шаг, чтобы не рухнуть вниз.
Биологической основой этого состояния является известная реакция «бей, беги, замри», которая заложена в каждом человеке как механизм выживания. Когда организм воспринимает угрозу, активируется древняя система защиты. Сердце начинает биться чаще, дыхание ускоряется, мышцы напрягаются, в кровь выбрасываются гормоны стресса, которые готовят тело к действию. В природе эта система помогала нашим предкам спасаться от хищников и других опасностей: либо нападать, либо убегать, либо замирать, делая себя невидимым.
В ситуации абьюза тело начинает воспринимать как угрозу то, что для других людей может быть просто неприятностью или временным конфликтом. Громко хлопнула дверь – и сердце сжимается, как будто сейчас произойдёт что-то страшное. Чей-то резкий тон заставляет руки покрыться холодным потом. Незнакомый номер на телефоне вызывает волну тревоги. Любая ситуация, напоминающая прошлый опыт, запускает ту же защитную реакцию «бей, беги, замри».
Нередко третья часть этой формулы – «замри» – становится ведущей. Когда человек живёт в условиях, где открытое сопротивление опасно, а убежать невозможно или очень страшно, психика часто выбирает замирание. В такие моменты внутри возникает чувство, будто вы перестаёте быть живой. Эмоции отключаются, тело как будто становится чужим, вы действуете автоматически, выполняя необходимые роли. Снаружи вы можете выглядеть спокойно, даже равнодушно, а внутри – пустота и ледяная тишина. Это защитный механизм, который помогал пережить то, что было непереносимо, но если он закрепляется, то начинает мешать жить и после того, как прямая угроза исчезла.
Длительное пребывание в опасной среде превращает тело в радар угрозы. Оно начинает замечать то, что связано с абьюзом, быстрее, чем разум успевает осознать происходящее. Это может быть запах, голос, интонация, жест, определённый тип шуток, манера смотреть, даже определённый тип обуви или одежда. Иногда вы сами удивляетесь: почему именно этот человек вызывает у меня такое напряжение, ведь он ещё ничего не сделал? Но ваше тело может уловить знакомые сигналы, отдалённо напоминающие прошлый опыт, и заранее включить режим защиты.
Такой радар однажды помог выжить, но со временем он начинает сбоить, реагируя не только на реальную опасность, но и на всё, что хоть как-то ассоциируется с ней. В результате вы можете избегать ситуаций, которые потенциально могли бы быть безопасными или даже полезными, просто потому что тело реагирует на них тревогой. Например, вам сложно идти на важную встречу, потому что напоминает по атмосфере те моменты, когда вас критиковали и унижали. Или сложно принять приглашение в гости к новым людям, потому что когда-то тусовка друзей абьюзера была фоном для очередного унижения.
Осознание того, что тело ведёт себя не «странно», не «против вас», а живёт по логике пережитой травмы, уже приносит облегчение. Вместо мысли «я какая-то ненормальная, у меня бесконечные проблемы» появляется более точное понимание: мой организм до сих пор защищает меня так, как умеет, исходя из того опыта, который у него был. Это не означает, что с этим ничего нельзя сделать. Напротив, именно признание того, что тело помнит, открывает возможность начать с ним сотрудничать, а не воевать.
Внимательное отношение к телесным ощущениям становится важной частью восстановления личности. Долгое время любой сигнал от тела мог восприниматься как помеха: усталость – как леность, плач – как слабость, дрожь – как «ненормальность». Абьюзер, скорее всего, регулярно подталкивал вас к этому взгляду, высмеивая ваши физические реакции, обвиняя в излишней чувствительности, игнорируя просьбы остановиться, когда вам становилось плохо. Теперь важно вернуть своему телу право говорить и быть услышанным.
Иногда восстановление начинается с очень простых шагов. Например, с того, чтобы несколько раз в день ненадолго остановиться и спросить себя: как я сейчас себя чувствую физически. Не в плане эмоций, а именно в теле. Где в теле сейчас напряжение. Как я дышу. Не сжаты ли плечи. Что происходит с челюстью, руками, животом. Эти вопросы сначала могут показаться странными, почти искусственными, особенно если вы привыкли полностью игнорировать телесные сигналы. Но постепенно они помогают вернуть контакт с тем, что вы долго отодвигали.
Когда вы замечаете, что дыхание неглубокое, прерывистое, можно попробовать слегка его углубить, но не насильственно, а мягко. Сделать несколько чуть более медленных вдохов и выдохов, прислушиваясь, как воздух входит и выходит. Важна не техника как таковая, а само отношение к себе: вместо «соберись, хватит паниковать» – «я вижу, что мне сейчас страшно, давай попробуем вместе чуть-чуть замедлиться». Это кажется мелочью, но именно из таких мелких практик состоит новое отношение к себе, противоположное тому, которое вы когда-то видели от абьюзера.
Релаксация – слово, которое часто ассоциируется с чем-то второстепенным, чем занимаются люди, у которых «есть время на всякую ерунду». После травматичного опыта многие испытывают внутреннее сопротивление идее расслабляться. В глубине души живёт убеждение, что расслабление опасно, что в этот момент вас обязательно настигнет что-то плохое. Поэтому простые вещи вроде тёплой ванны, спокойной прогулки, нескольких минут тишины могут казаться непозволительной роскошью или вызывать странное напряжение.
Важно не заставлять себя «расслабляться по графику», а скорее искать те маленькие формы расслабления, которые вызывают хотя бы каплю внутреннего отклика. Для кого-то это прикосновение к тёплой кружке чая, ощущение запаха знакомого напитка. Для кого-то – возможность укрыться пледом и почувствовать вес ткани на себе, как лёгкую защиту. Для кого-то – слушать звук дождя за окном или шорох листьев. Если вы долго жили в состоянии угрозы, ваше тело может сперва не доверять этим моментам, но, чем чаще вы позволяете себе маленькие дозы безопасного спокойствия, тем медленнее радар перестраивается на более реалистичный режим.
Движение – ещё один способ помочь телу переработать накопленные напряжения. Это не обязательно должны быть интенсивные тренировки. Наоборот, иногда резкие нагрузки только усиливают стресс, если внутри и так всё слишком напряжено. Простые, мягкие формы движения – ходьба, растяжка, спокойные упражнения, танец в одиночестве под любимую музыку – позволяют телу постепенно «распаковывать» зажимы, вытряхивать из мышц то, что в них застряло. При этом важно помнить, что задача – не «сделать себя лучше» или «быстрее прийти в форму», а услышать, как тело откликается.
Режим дня, о котором часто говорят в самых разных контекстах, после пережитого абьюза приобретает особый смысл. Когда долгое время ваша жизнь была подчинена чужим вспышкам, настроениям, произволу, у вас могли стереться представления о предсказуемости и повторяемости. Всё зависело от того, в каком состоянии сегодня абьюзер, и вы подстраивались под его ритм. Восстановление режима – это не про дисциплину ради галочки, а про создание внутренней опоры. Когда вы знаете, что примерно в одно и то же время ложитесь спать, просыпаетесь, едите, выделяете время на отдых, тело начинает ощущать, что мир стал немного более предсказуемым. Это снижает общий фон тревоги.
Мягкие практики заботы о себе часто кажутся слишком простыми по сравнению с масштабом пережитой боли. Возможно, внутри звучит голос: неужели пару вдохов, прогулка и тёплый чай могут изменить то, что со мной происходило годами. Разумеется, нет, если воспринимать их как чудесную таблетку. Они не стирают прошлого, не решают всех психологических задач, не заменяют других форм помощи. Но они выполняют важную, почти незаметную работу: они постепенно возвращают вам ощущение, что у вас есть тело, на которое можно опираться, а не только терпеть его симптомы.
Особенно важно перестать относиться к телу как к врагу или досадной помехе. Долгое время оно, скорее всего, ощущалось именно так: мешает чувствами, выдаёт слезами, срывается паникой, подводит усталостью. Но если посмотреть глубже, можно увидеть: все эти реакции – не против вас, а за. Тело пытается защитить, предупредить, показать, что порог напряжения превышен, что больше так нельзя. Оно говорит тем языком, который у него есть. И когда вы начинаете отвечать ему заботой, а не ненавистью, эта связь медленно, но верно меняется.
Личность, разрушенная абьюзом, восстанавливается не только через новые мысли и решения, но и через новые телесные переживания. Когда вы впервые за долгое время ощущаете отдых не как провал в пустоту, а как мягкое возвращение к себе. Когда в груди становится чуть-чуть просторнее, и на минуту кажется, что вы дышите полной грудью. Когда вы замечаете, что однажды заснули без нескольких часов мучительного перебора мыслей. Когда в какой-то ситуации, которая раньше вызывала приступ паники, вы чувствуете тревогу, но уже не теряете почву под ногами. Все эти маленькие перемены – признаки того, что тело тоже участвует в вашем возвращении к себе.
В будущем, переходя к осмыслению других аспектов жизни после абьюза, очень важно помнить: вы идёте вперёд не отдельно от своего тела, а вместе с ним. Оно помнит боль, но оно же способно помнить и новый опыт – опыт безопасности, мягкости, уважения, которые вы будете постепенно создавать для себя. И чем внимательнее и бережнее вы будете относиться к этим сигналам и возможностям, тем надёжнее станет та внутренняя опора, которую не сможет отнять уже никто.
Глава 4. Психика под осадой: газлайтинг, когнитивные искажения и утрата доверия к себе
Иногда самое страшное в абьюзивных отношениях происходит не тогда, когда звучат крики или хлопают двери, а тогда, когда всё тихо. Внешне нет ни скандалов, ни драки, ни публичного унижения. Люди вокруг могут говорить, что у вас вполне нормальная пара, что всякое бывает, что вы «слишком близко всё к сердцу принимаете». А тем временем внутри постепенно рушится то, что делает человека собой: способность верить своим глазам, своим чувствам, своим воспоминаниям, своему внутреннему «да» и «нет».
Психика под абьюзом живёт как город в осаде. На первый взгляд стены ещё стоят, дома вроде целы, люди ходят по улицам, но каждый день кто-то подкапывает грунт под фундамент, отравляет колодцы, поджигает склады. И однажды изнутри начинает валиться то, что долгие годы казалось несокрушимым. Человек, который когда-то мог ясно говорить, чего он хочет, защищать себя, сомневаться, спорить, вдруг обнаруживает, что боится собственного мнения, не доверяет любому своему ощущению и при малейшей неуверенности автоматически считает: «я неправа, а он, конечно, лучше знает».
Один из главных инструментов этой осады – газлайтинг. Слово звучит непривычно, но сам механизм знаком многим, кто жил рядом с абьюзером. Суть в том, что вам раз за разом внушают: то, что вы видите, слышите и чувствуете, на самом деле не имеет ничего общего с реальностью. Вы что-то помните – вам говорят, что такого не было. Вы говорите о том, что вам больно – вас убеждают, что вы всё придумали. Вы указываете на конкретные слова – вам отвечают, что вы их «не так поняли».
Сначала газлайтинг может выглядеть как обычный спор. Например, вы поднимаете болезненную тему, и партнёр с раздражённым удивлением говорит: «ты что, серьёзно? этого не было», «я такого не говорил», «ты всегда всё переворачиваешь». Вы начинаете вспоминать, прокручивать фразу, уверены, что слышали её именно так, но сталкиваетесь с твёрдым, спокойным отрицанием. На эмоциях вы ещё пытаетесь отстаивать свою правоту, приводить примеры, но абьюзер остаётся непоколебим, а иногда ещё и демонстративно возмущён: «как можно вообще меня в таком обвинять», «у тебя с памятью беда».
Если это происходит редко, психика может выдержать и сохранить доверие к себе. Но в абьюзивной динамике подобные эпизоды становятся привычной частью общения. Вы говорите: «вчера ты на меня накричал», а в ответ слышите: «я просто повысил голос, но это не крик, не преувеличивай». Вы вспоминаете, как он оскорблял вас при других, а он отвечает: «это была шутка, ты как всегда без чувства юмора». Вы уверены, что он обещал что-то сделать, а он отвечает: «я никогда такого не обещал, ты выдумываешь». Каждый раз точка опоры чуть-чуть смещается. Вы приходите в разговор с ощущением уверенности, а уходите с чувством, будто не можете поручиться ни за один свой воспоминание.
Газлайтинг почти всегда сопровождается обесцениванием. Если бы вас просто мягко поправляли, ничего бы не разрушалось так глубоко. Но на каждом шагу к вашим ощущениям прикрепляют ярлык «слишком». Слишком чувствительная, слишком ранимая, слишком обидчивая, слишком требовательная, слишком драматизирующая. В результате любая попытка обозначить свою боль или несогласие оказывается не разговором двух равных людей, а сценой, где один объясняет другому, что тот, по сути, неисправен.
Вы говорите: «мне было неприятно, когда ты сказал это при друзьях», а он приподнимает брови и спокойно заключает: «ты опять придумала проблему из ничего». Вы признаётесь, что боитесь его крика, а в ответ слышите: «да у тебя вообще с нервами что-то не то, надо лечиться, нормальные люди спокойно реагируют». Вы делитесь сомнениями, тревогой, усталостью, а вместо того, чтобы встретиться с вами, он переводит разговор в плоскость ваших «недостатков»: «вечно ты ноешь», «ты вообще не способна смотреть на вещи объективно», «ты всегда всё усложняешь».
Со временем эти комментарии перестают быть просто внешними, они становятся внутренними голосами. Вначале вы ещё спорите внутри себя: нет, я не преувеличиваю, мне действительно было больно. Потом где-то в глубине, на заднем плане, появляется тихое: а вдруг он прав. И каждую следующую ситуацию вы встречаете уже с этим сомнением. Вы чувствуете раздражение – и тут же накладываете на него фильтр: «может, я снова драматизирую». Вы расстраиваетесь из-за грубости – и тут же слышите внутри: «ну и что, не умерла же, можно и потерпеть, просто у меня кожа тонкая».
Когнитивные искажения, которые формируются под влиянием газлайтинга, пронизывают весь внутренний мир. Одно из самых сильных – склонность всегда искать вину в себе. Будто в голове включён автоматический поиск: в любой сложной ситуации алгоритм сразу выдает ответ: «это из-за меня». Абьюзер мог целый день ходить мрачным и молчаливым, потому что у него проблемы на работе, но вы всё равно будете прокручивать: «что я сделала не так, почему он на меня злится, наверно, я сказала утром что-то лишнее».
Другой тип искажения – недоверие своему восприятию. Вам может казаться, что человек ведёт себя холодно, отталкивающе, но вы тут же останавливаете себя: «это просто я опять додумываю», «это мои комплексы». Когда абьюзер улыбается другим, а вам кидает короткое раздражённое «потом поговорим», вы ощущаете внутри знакомое сжатие, но вместо того, чтобы признать: «мне больно от такого отношения», вы начинаете объяснять себе, почему это не заслуживает внимания.
Такие искажения особенно ярко проявляются в оценке собственных решений. Вы привыкли получать от партнёра послание: «ты не умеешь думать», «ты принимаешь неправильно любые решения», «если бы я тебя не контролировал, ты бы уже наломала дров». Под влиянием этих фраз вы постепенно перестаёте считать себя способной разбираться в жизненных ситуациях. Любой выбор, даже самый маленький, может вызывать тревогу. Вы десять раз пересматриваете список покупок, потому что боитесь, что что-то «не так купите». Сомневаетесь, идти ли на встречу или отказаться, потому что слышите внутри голос: «сама ты, конечно, выберешь худший вариант».
Абьюзивный партнёр укрепляет эти сомнения, демонстративно контролируя вас в бытовых мелочах. Например, он может постоянно проверять, как вы приготовили еду, как вы потратили деньги, как вы оделись, как разговариваете с другими. Каждое его замечание подаётся как «забота» или «обучение», но на самом деле это сообщение: «без меня ты не справишься, ты всегда всё делаешь не так, тебе нужен руководитель». И чем дольше вы живёте в таком режиме, тем больше это внедряется в самоощущение.
Замещение реальности происходит тонко. Абьюзер как будто рисует поверх вашей картины мира свою, настойчиво убеждая, что только она верна. Вы можете сказать: «мне страшно», а он отвечает: «тебе не страшно, тебе просто нравится привлекать внимание». Вы говорите: «я злюсь», а слышите: «нет, ты не злишься, ты просто истеричка». Вы говорите: «я устала», а он уверяет: «ты просто ленивая». Таким образом ваши реальные эмоции и состояния обесцениваются и подменяются обвинительными ярлыками.
Со временем вы перестаёте пытаться называть свои чувства. Смысл? Всё равно их переврут, обесценят и предъявят вам же как обвинение. Вместо живого контакта с собой возникает механизм самоподавления. Вы чувствуете раздражение – и глотаете его, потому что знаете: любое проявление станет поводом для нападения. Вы испытываете грусть – и прячете её, потому что слишком много раз слышали, что «надо быть проще». Вы устали – но продолжаете тащить всё на себе, потому что привыкли к фразе: «ты ничего не делаешь, я всё один».
В этом состоянии психика постепенно теряет связь с собственными процессами. Как будто внутри вас есть комната, где раньше постоянно горел свет, а теперь лампочка там мигает и часто совсем гаснет. Вы перестаёте разбираться, что вы чувствуете, чего хотите, где ваши границы. По привычке сначала оцениваете, как на это посмотрит другой человек, и только потом – собственную реакцию. Любой конфликт между вашим ощущением и чужой интерпретацией автоматически решается в пользу чужой.