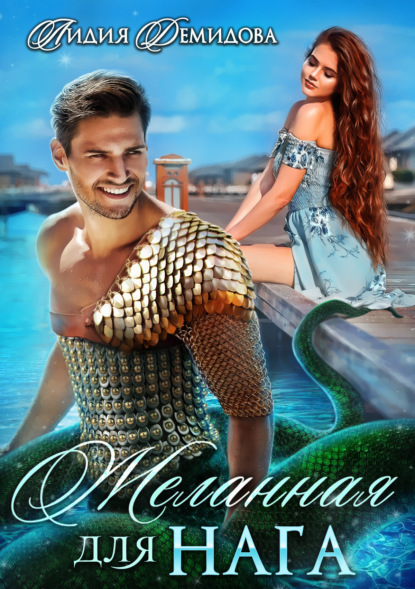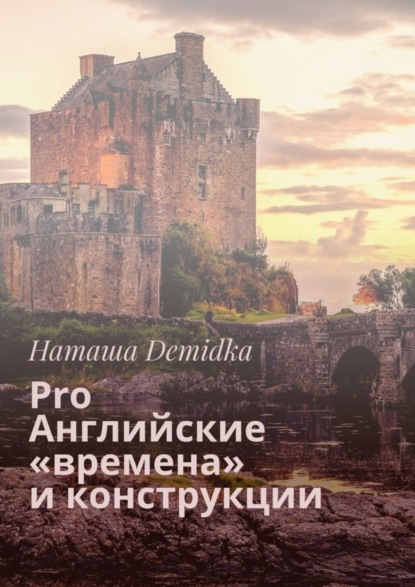Забытая личность: как восстановить себя после абьюза.
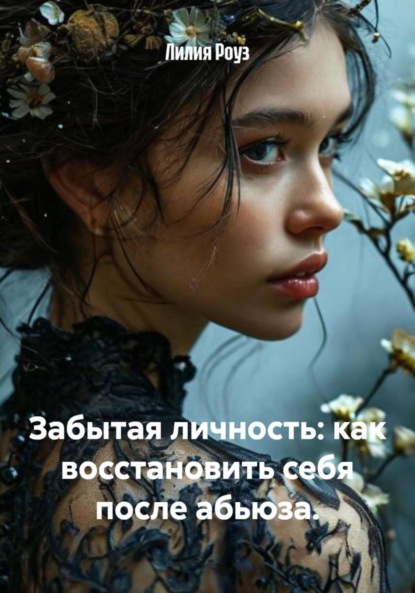
- -
- 100%
- +
Постоянные фразы вроде «ты всё придумала», «тебе показалось», «ты слишком чувствительная» действуют как медленный яд. Они не убивают личность сразу, но раз за разом отравляют доверие к себе. Чем чаще вы слышите, что вы «неправильно» воспринимаете реальность, тем больше вы отказываетесь от права на своё видение. В какой-то момент проще вообще перестать формировать своё мнение, чем каждый раз вступать во внутренний бой, отстаивая его.
Особо разрушительным оказывается то, что сомнения в себе начинают восприниматься как часть характера. Жертва абьюза нередко говорит о себе: «я всегда была нерешительной», «я по жизни такая, всё время сомневаюсь», «у меня с детства самооценка низкая». Отчасти это может быть правдой: вероятно, ещё до отношений у человека были свои уязвимости. Но то, что происходило в процессе абьюза, превратило эти уязвимости в удобную почву для манипуляций и многократно усилило их.
Абьюзер редко говорит прямо: «я разрушу твою способность доверять себе». Он может, наоборот, изображать учителя и наставника. Прикрываясь опытом, зрелостью, мудростью, он объясняет вам, как «правильно» жить, любить, дружить, воспитывать детей, работать, относиться к деньгам. Любое ваше отличие от его позиции воспринимается не как право на другой взгляд, а как ошибка, которую он великодушно «поправляет». Важно не то, какой именно ценностью он прикрывается, а то, что результат всегда один: вы всё время немного «не такие».
В какой-то момент вы обнаруживаете, что забыли, кем были до этих отношений. Не в смысле фактов биографии – вы помните, где учились, чем занимались, с кем общались. Но утрачивается ощущение внутреннего стержня. В воспоминаниях о себе вы либо видите «глупую наивную девочку, которая ничего не понимала», либо «эгоистку, которая не умела ценить того, кто рядом», либо вообще ничего не видите, будто прошлое затянуто дымкой. Всё, что вы о себе думаете, определяется тем, как вас описывали в этих отношениях.
Человек под осадой газлайтинга начинает бояться своих решений. Каждый раз, когда ему нужно выбрать, он вспоминает, как много раз слышал: «ну вот, опять всё испортила», «я же говорил, что ты сделаешь неправильно», «если бы ты слушала меня, было бы лучше». Этот страх ошибиться становится парализующим. Иногда вы вообще перестаёте решать что-либо серьёзное, перекладывая ответственность на других или оставляя всё как есть, даже когда это явно вас разрушает.
При этом окружающим может казаться, что вы просто «неуверенный в себе человек» или «человек без стержня». Они видят только конечный продукт: нерешительность, тревожность, зависимость от чужого мнения, нежелание принимать важные решения. Но за этим стоит долгий, системный процесс, в ходе которого ваше внутреннее «я» подвергалось постоянному сомнению, обесцениванию и корректировке. Сомнения в себе перестали быть просто особенностью темперамента и превратились в результат травматического опыта.
Важно увидеть именно эту связь. То, как вы сейчас сомневаетесь в каждом шаге, во многом – не ваш врождённый характер, а следствие системного воздействия, которое вы испытали. Любая травма, связанная с длительным психологическим давлением, перестраивает внутренние схемы. Вы столько раз получали наказание за самостоятельность, что мозг запомнил: «инициатива опасна». Вы столько раз слышали, что ваша реакция неправильна, что психика вывела правило: «лучше вообще не доверять себе, чем снова услышать, что я всё испортила».
Осознание этого не отменяет боли, но меняет фокус. Вместо «я испорченная, со мной что-то не так» появляется более точная формулировка: «со мной долго обращались так, что я перестала себе доверять». В одном случае вы относитесь к себе как к неисправному предмету, который нужно либо выбросить, либо починить насильно. В другом – как к человеку, который пережил тяжёлый опыт и нуждается не в насмешках, а в поддержке и внимательном отношению.
Постепенное возвращение доверия к себе начинается с маленьких, почти незаметных шагов. С того, чтобы позволить себе хотя бы внутри признать: то, что я чувствую, имеет значение. Если мне больно, значит, мне больно, а не «кажется». Если мне страшно, значит, есть причина, а не «я придумала». Если я злюсь, значит, во мне действительно есть эта энергия, а не «я опять истерю».
Когда в следующий раз внутри поднимется сомнение: «может быть, я всё драматизирую», – можно попробовать задать себе другой вопрос: «а что если моя реакция сейчас нормальна в контексте того, что я пережила». Это не значит автоматически всегда считать себя правой и других виноватыми. Это значит хотя бы на мгновение допустить, что то, что рождается внутри, не является по определению ложью, фантазией, истерикой.
Психика, долго жившая под осадой, не откроет сразу ворота. Она будет проверять, не окажется ли снова обманутой, не прилетит ли очередное «ты всё выдумала». Поэтому процесс восстановления доверия к себе всегда неровный. Сегодня вы ясно чувствуете, что вас унижают, и внутренне соглашаетесь с этим. А завтра снова думаете: «ну, может, я действительно перегнула палку». Это нормально. Любой новый способ отношения к себе сначала кажется чужим, не своим.
Но разница между жизнью под абьюзом и жизнью после него именно в том, что теперь у вас есть шанс выбирать, какими голосами наполнять свою внутреннюю комнату. Голос, говорящий «ты слишком чувствительная, замолчи», вы уже слышали миллион раз. Он знаком, но разрушителен. Если рядом или внутри появляется другой голос – даже тихий, неуверенный, – который говорит: «тебе больно, и это важно», – у вас появляется возможность выбрать, кого слушать.
Восстановление доверия к себе включает в себя и работу с когнитивными искажениями. Это похоже на то, как если бы вы внимательно пересматривали старые сценарии и начинали задавать к ним вопросы. Например, раньше в любой неприятной ситуации у вас автоматически включалось: «всё из-за меня». Теперь можно замедлиться и предложить себе другую фразу: «часть ответственности может быть на мне, но часть – на обстоятельствах или других людях». Вы как бы расширяете картину, в которой есть ещё что-то, кроме вас, постоянно виноватой.
Или вы привыкли считать, что раз кто-то не согласен с вашим мнением, значит, ваше мнение автоматически неправильное. Этот механизм можно мягко оспорить: «факт несогласия не делает меня ошибающейся по определению, у людей могут быть разные точки зрения». Такие маленькие переосмысления сначала выглядят как искусственное упражнение, но постепенно формируют новые тропинки в сознании.
Самое важное – прекратить относиться к своим сомнениям как к доказательству того, что вы слабая, «неправильная» или неспособная. Сомнения в себе, страх принимать решения, привычка проверять реальность через других – естественные последствия той внутренней осады, в которой вы долго жили. Это не приговор, а следствие. Любое следствие можно постепенно исцелять, если перестать путать его с сутью личности. Внутри вас есть и другое – тот человек, которым вы были до абьюза и которым становитесь сейчас, шаг за шагом возвращая себе право видеть, чувствовать, выбирать и верить себе.
Глава 5. Тюрьма вины и стыда: как разрушительные чувства удерживают в абьюзе
Есть особая категория боли, которая не выглядит как рана извне. Это не удар, не прямое оскорбление, не открытый крик. Эта боль живёт глубоко внутри и говорит тихим, но настойчивым голосом: «это ты виновата», «это ты неправильная», «если с тобой так обращаются, значит, ты этого заслуживаешь». Именно она удерживает человека в разрушающих отношениях даже тогда, когда разум уже понимает: происходящее ненормально, опасно, унизительно. Вина и стыд становятся как будто внутренними надзирателями, которые не позволяют выйти из тюрьмы, даже если двери уже не заперты.
Многие люди, живущие в абьюзивных отношениях или вырвавшиеся из них, рассказывают о странном раздвоении. На уровне логики они могут признать, что то, что происходило, было несправедливо. Они могут увидеть, что партнер нарушал границы, унижал, причинял боль. Но как только появляется мысль о разрыве, защите своих интересов, даже просто о праве испытывать злость, тут же взлетает целая лавина внутренних обвинений: «ты разрушительница», «ты бросаешь человека, который тебя любит», «ты сама виновата, что довела до такого», «ты недостаточно терпеливая, мудрая, добрая».
Абьюзер мастерски играет на этих чувствах. Он словно пользуется невидимыми кнопками, которые уже встроены внутрь человека. Каждое слово «ты сама виновата» попадает в уже подготовленную почву. Каждое «никто с тобой не уживётся» цепляется за давнее убеждение, что со мной что-то не так. Каждое «я терплю тебя, никто другой не станет» ложится на старый страх быть ненужной и оставленной. Чтобы понять, почему вина и стыд оказываются такими сильными орудиями в руках абьюзера, нужно заглянуть глубже – туда, где они формировались задолго до этих отношений.
Чувство вины само по себе не зло. В здоровом виде оно помогает осознать, что мы кого-то задели, причинили вред, переступили через важные для нас ценности. Тогда вина становится сигналом: нужно что-то исправить, извиниться, изменить поведение. Стыд тоже не всегда разрушителен. В своей мягкой форме он помогает нам учитывать других, не вторгаться в их пространство, не вести себя откровенно уничижительно. Но в реальности у многих людей эти чувства никогда не были безопасными. Они превращались в тяжелые камни, которые вешали на шею ещё в детстве.
Ребёнок, который растёт в семье, где его потребности обесцениваются или высмеиваются, быстро учится ощущать стыд за сам факт того, что он чего-то хочет. «Не ной», «не выдумывай», «много хочешь – мало получишь», «перестань быть таким чувствительным», «ты опять со своими глупостями» – за этими словами часто стоит послание: твои чувства слишком, твои желания неудобны, твоя боль неважна.
Если ребёнок плачет, потому что ему страшно, а взрослые реагируют раздражением или насмешкой, он постепенно усваивает: страх – это позор, «правильные» люди не боятся. Если он радуется и приходит поделиться успехом, а в ответ слышит холодное «ну и что, ничего особенного», то постепенно начинает стыдиться даже своей радости. Если он злится и пытается отстоять себя, а в ответ получает наказание и фразы «как тебе не стыдно так отвечать взрослым», «ты ужасный ребёнок», то в его внутренней карте мира формируется связка: проявлять себя – значит быть плохим.
Такие дети часто очень рано начинают брать на себя ответственность за чужое настроение. Когда мама злится, ребёнок думает: «я её расстроил». Когда папа молчит и ходит с тяжёлым лицом, кажется: «это я его довёл». Это не сознательное решение, а выживательная стратегия. Ребёнку страшно представлять себе, что мама или папа сами не справляются со своей жизнью, поэтому легче объяснить происходящее своей «плохостью». Если я виноват, значит, мир всё ещё управляем: стоит мне измениться, и всё наладится.
Так в душе формируется очень знакомая многим внутренняя постановка: если рядом со мной кто-то страдает, злится, кричит, значит, это из-за меня, значит, я должна что-то сделать, чтобы всё стало хорошо. Вина становится не реакцией на конкретный поступок, а фоном, на котором строится вся жизнь. Человек, выросший в такой атмосфере, входит в взрослую жизнь уже с тяжёлым рюкзаком из «я должна», «я обязана», «я виновата, если кому-то плохо».
Когда такой человек встречает абьюзера, ему кажется, что он встречает нечто знакомое. Не обязательно на уровне сознания. Но внутренне в реакциях абьюзера есть что-то родное: ведь он тоже обвиняет, что всё из-за тебя; он тоже дает понять, что его настроение зависит от твоего поведения; он тоже называет тебя эгоисткой, неблагодарной, безответственной. Вина, заложенная в детстве, словно находит себе нового хозяина, готового пользоваться её силой.
«Ты сама меня провоцируешь», – говорит абьюзер после очередного вспышки. «Если бы ты не довела меня, ничего бы не случилось». И внутри что-то болезненно откликается: да, это я. «Если бы ты нормально разговаривала, я бы не кричал», – добавляет он, и вы вспоминаете, как в детстве вам говорили: «если бы ты нормально себя вела, я бы не сорвалась». Вина как будто заполняет собой всё пространство. Она не спрашивает, была ли у человека возможность вести себя иначе, не рассматривает масштаб своих и чужих действий. Она просто утверждает: раз кому-то плохо, значит, я что-то сделала не так.
Особенно сильно вина закрепляется, когда после вспышки абьюзер демонстрирует слабость. Он может говорить, что у него тяжёлое детство, что его никто никогда не любил, что он боится вас потерять, что вы единственный человек, который способен его выдержать. Он может плакать, хвататься за сердце, говорить, что не понимает, зачем живёт, драматично намекать, что без вас ему не к чему стремиться. Возможно, вы уже стоите в дверях и собираетесь уйти, но эти слова проникают внутрь и задевают всё то же глубокое чувство вины за чужую боль.
«Как я могу его бросить, если он и так столько пережил», – думаете вы. «Если я уйду, он совсем пропадёт». «У него нет никого, кроме меня». «Я не могу быть такой жестокой». «Он делает ошибки, но кто не делает? Я же знаю, что у него тоже травмы». И вот вы снова закрываете дверь, снова откладываете уход, снова убеждаете себя, что обязаны быть рядом, чтобы не стать «плохим человеком».
Стыд вплетается в эту картину не менее плотно. Он шепчет: если узнают, что ты живёшь в таких отношениях, тебя осудят. Если ты уйдёшь, все скажут, что ты разрушила семью. Если признаешь, что с тобой обращались плохо, встанет вопрос: а почему ты это терпела столько времени. Стыд боится чужих взглядов, чужих оценок, чужих вопросов: «почему ты раньше ничего не сказала?», «зачем ты в это ввязалась?», «как можно было быть настолько слепой?».
При этом стыд касается не только будущей реакции окружающих, но и собственной. Как только вы начинаете трезво смотреть на происходящее, может накатывать жгучее чувство: как я могла позволить так с собой обращаться, во что я превратилась, какая же я глупая, слабая, ничтожная. Вместо того чтобы направить гнев туда, откуда исходило насилие, вы поворачиваете его на себя. В этом и состоит изощрённость тюрьмы вины и стыда: человек сам становится строгим надзирателем, который наказывает себя за то, что с ним сделали другие.
Чтобы понять, насколько глубоко это работает, представим внутренний монолог женщины, которая снова и снова пытается объяснить себе, почему всё ещё там, где ей больно.
«Да, он кричал на меня, да, говорил ужасные слова. Но я же тоже не подарок. Я же знала, что он устал, зачем я вообще начала этот разговор вечером. Можно было подождать до выходных. А я полезла со своими чувствами, когда у него на работе завал. Любая нормальная женщина бы поняла и промолчала. А я – нет, мне обязательно надо было высказать. Конечно, он вспылил. Любой бы вспылил. И вообще, а что я такого пережила? Он не бьёт меня по-настоящему. Ну да, толкнул пару раз. Но у других – хуже. У меня руки-ноги целы, дом есть, деньги есть. Наглая я, вот что. Ещё и предъявляю. Он терпит моё нытьё, а я ещё обижаюсь. И куда я денусь от него? Кому я такая нужна, с моими заморочками. Никому я не нужна. Никто не станет терпеть мои перепады настроения, мои слёзы. Он прав, когда говорит, что только он способен это выдержать. Я должна быть благодарной, а не жаловаться».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.