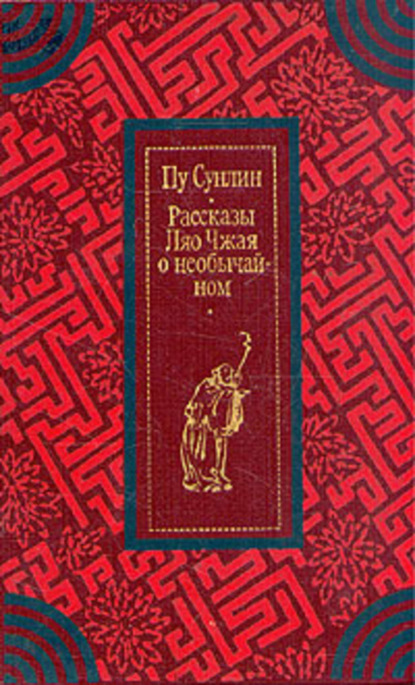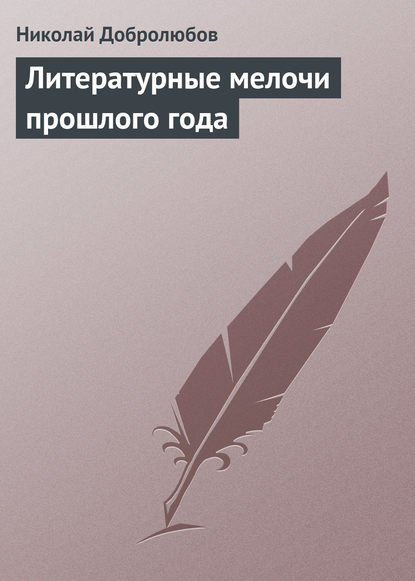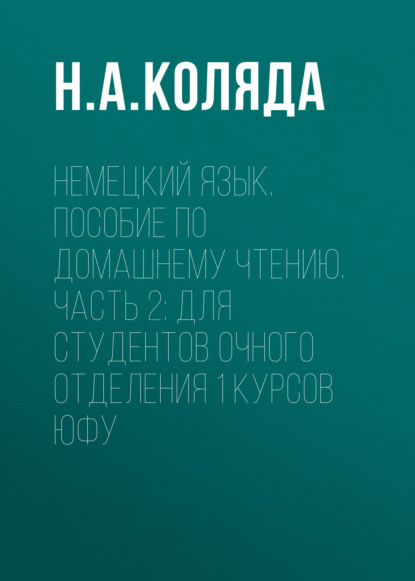Финист – ясный сокол

- -
- 100%
- +
Я стучу и вижу младшую дочь кузнеца, девку Марью, – она стоит с краю, стесняется, а наряжена как птица, вокруг шеи – веер из перьев, и вдоль локтей перья, и сзади на спине, и пониже спины; в свете костров перья играют переливами, и младшая дочь кузнеца выглядит, как сбежавшая с верхнего неба божья жена. Перья как настоящие, но приглядеться – сшиты, связаны из цветных тряпок, искуснейшим образом.
После заката приезжает Велибор, а с ним ещё полторы дюжины мальцов и девчонок, все верхом, все в шерстяных платьях, в бронзовых ожерельях, в серебряных браслетах, сладко пахнущие сахарным вином из запечатанных глиняных кувшинов; гладкие, расслабленные девочки с лёгкими русыми волосами, слабосильные юноши с белыми бледными шеями и тонкими губами, в сапожках из телячьей кожи, в резных костяных нагрудниках, и с изумительными, тончайшей чеканки перстнями, в которых волшебно сверкают самоцветные камни.
Увидел их, резанских богачей, – и в третий раз пожалел, что не заломил цену.
Другие приходят пешком, парами – малый с девкой – или ватажками: три-четыре девки, два-три парня.
На закате мы начали, а к полуночи уже стоял полный угар.
Кто хотел – разделся донага. Комаров отгонял еловый дым. Не в меру разгорячённых охлаждала родниковая вода. Прямо за навесом, где гудели бубны, любому желающему бражник наливал пиво, мёд или брагу. Чуть дальше, вниз по склону холма, в выбитых зарослях репейника, жгли ещё один костёр и возле него угощали грибами, там людей было мало, а раздавал грибы сам мальчик Велибор, сидючи на бобровой шкуре. Я обратил внимание, что Велибор, оплативший весь дорогостоящий праздник из собственного кармана, сам не плясал, только смотрел: сидел у огня с гордым видом, и его глаза блестели.
А ещё ниже по склону горел ещё один костёр, сплошь из еловых веток, для тех, кому не нужны были ни брага, ни грибы – кому хватало друг друга.
Там я заметил двух старших кузнецовых дочерей, обе с головы до ног в медных и бронзовых монистах, обе такие румяные, поднеси лучину – вспыхнут. Видно, девичья постная житуха была им совсем невмоготу.
Уже перед рассветом, в час волка и собаки, все пьяны: кто от браги, кто без браги; девки – малиновые от волнения, мокрые от пота, пахнут как животные; парни прыгают через огонь, и всё перешибает вонища палёных волос. Один совсем упился, прыгает и спотыкается об головёшки, рушится в полымя, его вытаскивают с хохотом, у него горят борода и брови. Я узнаю в нём дядьку-охранника, который стерёг мальчика Велибора. Дядька тоже, видать, оказался не чужд молодецких забав. Его оттащили в сторону, набросили одеяло, сбили огонь, а он – воет в голос от боли и наслаждения, и какой-то парнишка в одних портах подбирает в костре и приносит следом бронзовый нож дядьки, и кладёт рядом.
Я понимаю, что момент настал, и киваю Кирьяку – тот выскакивает на вершину холма перед всеми, в маске козла, с рогами в стороны, а следом и сам я, в наморднике из бересты, изображающем поганую змеиную голову, – и мы начинаем крутить-вертеть карусель, и на руках, и на головах, и прыгаем, через голову с переворотом, вперёд-назад; визжат счастливые девки, алые искры летят в чёрное дымное небо, – и вот прохладный рассветный ветер сдвигает в сторону дым, и звёзды бледнеют. Пришёл новый день.
Уже вся толпа разделилась. Бо́льшая часть убежала к реке, купаться, миловаться по кустам. Меньшая часть уснула, где застиг сон: кто выпил лишнего, кого так сморило. Костры потухли, но возле самого большого собрались дюжины две стойких, ради последнего, самого ярого действа-зрелища. Кирьяк длинной слегой разворошил кострище, выровнял угли, обратил в полыхающий ковёр – они светятся теперь рубиново, переливчато, и Кирьяк выходит босиком на ковёр из углей и шагает по ним, закинув лицо в небо.
Один, второй – стягивают сапоги, кожаные и лыковые лапти, босые выходят на пылающий круг.
Кирьяк в центре, хлопает себя ладонями по груди, по бокам, дышит шумно.
Для ужаса я подкидываю кусок бересты на ковёр из пылающих углей – береста вспыхивает и окутывается облачком густого синего дыма.
Но по тем же пылающим углям хрустят босые ноги самых смелых и самых отчаянных.
И я вижу среди нескольких идущих по углям – младшую дочь кузнеца.
Она уже сбросила с себя платье из перьев и нижнюю юбку – она совсем нагая. Я вижу её со спины – она идёт по углям осторожно, как по болоту, и сама похожа на язык пламени.
Дрожит, плывёт горячий воздух.
По обширному кострищу, босыми ногами по алым углям, ходят нагие люди, не боясь, не стесняясь.
Я вижу ещё одного: молодого, невероятно сильного на вид парня, совсем голого, у него широкая спина и мощная шея, он шагает по углям слишком легко, как будто ничего не весит, он дважды проходит мимо дочери кузнеца, совсем голый малый рядом с голой девкой, на пылающем ковре из живых углей, в горячем мареве; миг – и волосы девки вспыхнут; но не вспыхивают, лишь ветер их шевелит; и нагота этих двоих, в оранжевом огненном круге, кажется мне совершенной, полней полного, как будто они – боги.
Я замечаю, как они смотрят друг на друга, эти двое нагих, счастливых.
Я пытаюсь внимательней рассмотреть странного невесомого незнакомца. Он слишком крепкий для своих лет, как будто тело тридцатилетнего матёрого воина приставили к голове четырнадцатилетнего паренька. Под его левой лопаткой набито сложное пятно, несколько знаков в центре правильного круга; расстояние слишком велико, чтоб рассмотреть внутри пятна отдельные знаки, но достаточное, чтоб понять: ни один из известных мне умельцев не может набить столь искусный рисунок.
Я вижу, как нагой парень с пятном протягивает руку дочери кузнеца, и она уходит вместе с ним в прозрачную тьму.
Его кожа слишком гладкая и тёмная, бронзовая, а взгляд слишком уверенный и прямой.
Нездешняя, нелюдская сила исходит от него.
Обоняя эту силу, я вздрагиваю.
Я смотрю, как он уводит девку Марью в сторону реки, и сотрясаюсь от страха.
Так заканчивается гульбище.
Сходит на нет праздник – гостям пора и честь знать.
Я не вижу, куда ушли эти двое.
По мне ручьём течёт пот. Мне подносят баклагу мёда – я хлебаю, не чувствуя вкуса.
Мертвеют, истаивают угли на рубиновом ковре.
После полной ночи бубенного боя я ничего не слышу. Глазами понимаю – уходят двое нагих, счастливых, он и она, уходят, падают в пропасть, одну на двоих. Звуков нет, только свист в ушах. Вижу обращённые в мою сторону лица, вижу улыбки, вижу лучи в глазах, всем понравилось гульбище, гости рады, благодарят, суют кто дорогой подарок от щедрот, кто сувенир от наивного довольства, а я – ничего не слышу, только киваю, рукой отмахиваю, да, благодарствую, мне тоже по нраву, я тоже доволен, мы все для вас старались, за-ради вашей услады.
А сам смотрю: куда же убежали, в какую сторону увлёк кузнецову дочку тот непонятный, жилистый, то ли муж, то ли мальчик, то ли гость посторонний.
А мне – чего? Я посмотрел, я вздохнул.
Дураки думают, что нам, глумилам, на всяком празднике достаются лучшие девки.
Это враньё.
Лучшие девки достаются лучшим парням, но только при одном условии: если и девка местная, и парень местный.
А глумила – кто таков? Всегда чужой, пришлый.
На самом деле девки боятся таких, как я.
Утро вступило. Сверху – небесная сырая прохлада, снизу – земной жар, огонь, дух телес.
Догорают угли. Остывает бубен. Орут в затоне растревоженные лягушки. Поют птицы, утро празднуют. Хорс выходит на голубую пажить, в его лучах распрямляется трава. Кирьяк спит: не сдюжил праздничного накала, рухнул, голову завернул в подол потной рубахи, захрапел. Руки раскинул, и я вижу – под ногтями кровь запеклась. Если всю ночь бить в бубен – всегда кровь идёт, по-другому никак.
Кончился праздник.
И вот, когда я, оглохший, измученный, смотрел вслед тем двоим – убегающим, счастливым, голым, – я понял, почему ощущаю страх вместо довольства или гордости.
Тот малый, что увлёк девку Марью, утащил за собой в лес, – был не наш.
Нелюдь. Оборотень.
Я смотрю в его спину, он бежит по холму, вниз по склону, чудом не спотыкаясь, и увлекает за собой хохочущую, почти безумную Марью, младшую дочь кузнеца Радима. Я точно вижу, что он – нелюдь, но поделать ничего не могу. Холодная волна смысла переваливает через моё темя.
Постороннее существо, принявшее вид человека, забрало у меня девушку, которую я полюбил.
И вот я вижу: он шагает в чащу и пропадает, а из ветвей, хлопая сильными крыльями, вылетает сокол, и ввинчивается в синее утро.
9.Когда разошлись все, кто мог ходить, – мы сняли бубны с растяжек, отнесли в лагерь и спрятали. Потом пришлось ещё дважды возвращаться: забрать меха с остатками пива и браги, туеса с ягодами, прочую снедь. Напоследок Кирьяк походил меж уснувших. Поискал, кто чего обронил. Нашёл два ожерелья и амулет. По обычаю, находки принадлежали нам. Но украшения оказались простенькими кожаными плетёнками, амулет – куриный бог в волосяной петле. Кирьяк повертел его в руках и оставил возле самого большого кострища на вытоптанной траве, чтоб издалека было заметно.
И мы ушли с гульбища, вернулись в стан и немедленно уснули мертвецким сном. Стеречь вызвался Митроха, хотя на вид умаялся больше нас.
После гульбища я, как обычно, снов не видел, а только слышал рёв бубна, сотрясающий в голове, за костями черепа, все три моих разума – нижний, который повыше шеи, и средний, который за глазами, и верхний, который на темени; спал, а кожаное горло моего бубна гремело и жарко дышало в меня, как будто я замерзал и меня нужно было отогреть.
Когда проснулся – солнце поворачивало на закат, и стояла такая млечная, сладкая теплынь, какая бывает только в этих местах и только в начале лета; не жара и не прохлада – чистая нега, пахнущая цветами.
Далеко ещё было до нового урожая, до сытой разгульной осени. Не поднялась ещё рожь, не налились яблоки, не пошли грибы. Зверь ушёл в чащи, пестовать новый помёт. Но цветы уже стояли, сплошным ковром до пояса, от бархатного багряного до густого синего – и гудели над ними пчёлы, обещая бортникам добрый сбор.
Я спустился к реке, скинул порты и долго плавал, отодвигая ладонями клубы тополиного пуха. Вода у поверхности была совсем тёплая, однако ноги загребали студёное. Бубен в голове гремел уже не так сильно. Я знал, что он замолкнет только на второй день, и всё это время, кроме грохота и стука, я почти ничего не буду слышать.
Она появилась – я не заметил.
Вышла на берег, и стояла, дожидаясь, пока я её увижу; а когда поняла, что увидел, – отошла в сторонку и отвернулась, чтоб я смог спокойно натянуть порты.
– Надо поговорить.
Я кивнул и показал пальцем на ухо.
– Конечно! Только – громко! Я всю ночь в бубен бил!
Марья кивнула и подошла ближе, и я едва сдержался, чтоб не схватить её и не прижать, и не отпускать больше никогда.
– Нелюди, – громко произнесла она. – Птицечеловеки. Ты что-нибудь про них знаешь?
– Знаю, – сказал я (собственный голос едва доносился). – Но их, говорят, не бывает.
– Бывают.
Я сразу понял. Вспомнил широкие плечи и шею того, кто увёл её с холма к берегу реки. И ответил:
– Я их никогда не видел. Только слышал старые байки. Это оборотни. Больше чем люди. Люди – и одновременно птицы. От них не бывает вреда.
Марья помолчала, подобрала плоский камешек и с мальчишеской ловкостью, вывернув сильный локоть, пустила по воде: камешек запрыгал и канул в тонком предвечернем тумане.
– Он назвал своё имя, – сказала она. – Финист.
– Финист, – повторил я. – Что за имя такое?
Марья пожала плечами.
– Такое.
– И что оно значит?
– Ничего не значит. Финист.
– Это первое имя – или второе?
– У каждого из них только одно имя.
Я подумал и сказал:
– Так не может быть. Кто родился с разумной головой, тот берёт себе три имени, а у тех, кому повезло, может быть и четыре, и даже пять.
– Одно имя, – повторила Марья. – Финист. Некоторые стороны их жизни устроены проще, чем у нас.
– Это он тебе сказал?
Марья кивнула. Села на землю и обхватила руками колени.
– Что ещё он говорил? – спросил я.
– Почти ничего. Молчал и на меня смотрел. Потом улетел.
– Ты сказала ему своё имя?
– Да.
Я набрался тогда храбрости и спросил:
– Зачем он тебе?
– Не твоё дело.
Но мне было важно понять, и я добавил:
– Он красивый. И здоровый. Выше меня.
Марья сразу кивнула, как будто думала о том же.
– Да. Он очень сильный. Таких, как ты, троих в землю втопчет.
– Ну, это неизвестно.
Она засмеялась.
– Вы, парни, – сказала, – такие смешные. Обязательно вам надо знать, кто кого и сколько раз втопчет.
– Разумеется, – ответил я. – Что может быть важнее. Ты взрослая девка, а не понимаешь. Давай, мы его тебе поймаем? Этого оборотня? Силок поставим, а как попадётся – прибьём дубинами, и в клетку посадим. Будешь его мышами кормить.
– Дурак, – сказала Марья. – Боги накажут тебя за такие слова. Как же можно живое существо в клетку сажать?
– Птицеловы сажают, и ничего.
– Птицеловы, – сурово сказала Марья, – такие же дураки, как и ты. Птицеловы – злые люди, они жертвуют нижним богам, и после смерти попадут в нижний мир, и жёнами их будут змеи, а друзьями – черви.
Встала и собралась уходить, разгневанная, прямая, алый румянец облил щёки, глаза яркие, сверкают, как у мавки; вдруг мне показалось, что если она сейчас уйдёт – я больше никогда её не увижу, и потом буду всю жизнь жалеть.
А что я дурак – так это не новость. Скоморох и есть дурак, – мы на такие слова не обижаемся, а только хохочем.
– Подожди, – сказал я. – У меня есть друг, Митроха. Он где только не бывал. Пойдём, расспросим его. Может, что-то скажет.
Туман над рекой опускался ниже и огустевал. По зелёной прибрежной глади скользили водомерки, а дальше, на чистой воде, то и дело всплёскивали хвостами рыбы.
И мы пошли в стан. Я не хотел будить старого Митроху – но он и не спал вовсе. Лежал, завернувшись в лысую свою медвежью полость, и смотрел в небо. А на мой прямой вопрос ответил, что после каждого гульбища не может уснуть по две ночи: грудь ходуном ходит.
Но какая-то часть разума старика всё равно спала, потому что нельзя же совсем без отдыха после столь тяжёлой работы, – и когда Марья подошла к нему и поздоровалась – Митроха очнулся не сразу, несколько мгновений смотрел выцветшими глазами, ничего не соображая, и только потом сел. А когда сел, когда рассмотрел, что перед ним молодая девка, – вдруг застеснялся, засуетился, бороду торопливо обгладил, порты в кулак зажал пониже пупка, – я едва не заплакал. Мужской силы, видать, в нём уже было мало, но приличие осталось.
– Знаю, – сказал он. – Птицечеловеки, да. Летающие оборотни. Есть такие. Считается, что они – орудия старших богов. Я видел птицечеловека один раз. Это был филин. Помню, у него голова вокруг плеч крутилась так, что он мог посмотреть себе за спину. Помню, я испугался, но потом страх пропал. От них идёт сила, ты эту силу чуешь – и не боишься. Понимаешь, что они тебе не сделают ничего худого. Людям их никак нельзя увидеть – они сами появляются, по своей надобности. Говорят, они живут все вкупе, отдельным народом, и где-то в небе у них есть своя селитьба. Говорят, они владели миром три тысячи лет, а теперь боги стирают их с лица земли.
Марья слушала жадно, смотрела Митрохе в глаза.
– Ты с ним говорил? – спросила она.
– Нет, – ответил Митроха. – Бесполезно. Всё равно не поймёшь ничего. Нелюди – они и есть нелюди.
– Они как мы, – твёрдо возразила Марья. – Я всё сама видела.
– Снаружи, может, и как мы, – многозначительно сказал Митроха. – А внутри? У меня был когда-то дружок – он рассказывал, что нашёл однажды дохлого птицечеловека и рассмотрел. У него ниже горла был зоб, действительно, как у птиц, и в том зобе – мелкие камешки, они их, стало быть, склёвывают, как куры, чтобы пища в утробе лучше перетиралась…
– Хватит! – сказала Марья с возмущением.
– …А ещё, – продолжал Митроха, как бы не обратив внимания на выкрик, – тот мой дружок говорил, что пальцы у них не гниют, даже у дохлых, потому что мяса там нет, только жилы, и кости, и когти, острые, как железные ножи…
Тут я понял, что старик просто глумится над девкой, вышучивает.
Но и она догадалась, и улыбнулась.
Удивительно было видеть, как она может так легко и спокойно улыбаться, когда идёт такой страшный разговор.
– Скажи главное, – велела Марья. – С ними можно иметь честное дело?
Митроха блеснул глазом и улыбнулся самой глумливой улыбкой из всех, какие только бывают.
– Дай коленку погладить, тогда скажу.
Тут я ощутил необходимость нарушить молчание и сказал:
– Не груби, старик. Если тебе так хочется, можешь погладить меня.
Митроха тут же сдал назад, осклабился с озорством, обгладил ладонью свою торчащую бородёнку.
– Ладно, – сказал он. – Слушайте оба. Птицечеловеки обычных девок в жёны не берут. Но могут украсть, унести. Считается, что от них у людей потомства не бывает. Если бы обычные девки рожали потомство от нежити – мир заполнился бы ужасными уродами. Волк зайца не кроет, а только бьёт и ест, так мир излажен от века. Так что ты, – он посмотрел на Марью как на врага, – лучше забудь про того оборотня.
Марья не ответила, но и не уходила.
– Я видел его вчера, – добавил вдруг дед Митроха. – Возле тебя. Большой, крепкий. Кожа бронзовая. Наши бубны на таких, как он, не действуют. Жилы у них внутри натянуты стократ крепче, чем у людей, и бой обычного бубна для него всё равно что плеск волны – ничего не значит. Нелюдь, говорю же. Если опять придёт – прогони его. Пусть он живёт в своём мире, а ты живи в своём.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.