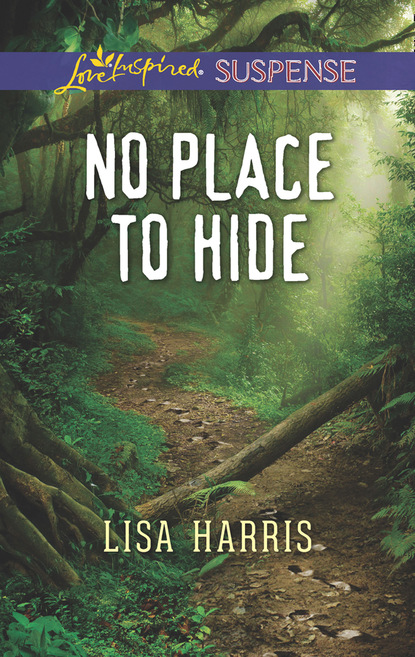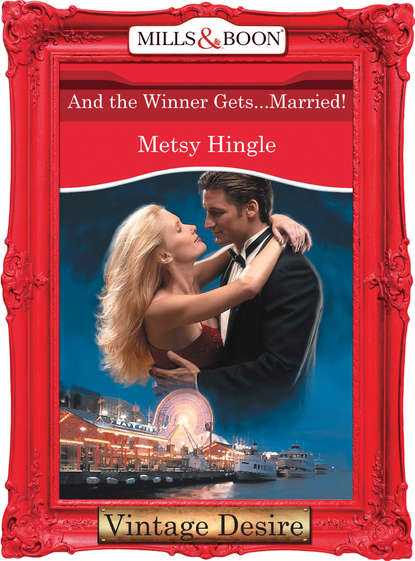- -
- 100%
- +

Salman Rushdie. The Ground Beneath Her Feet
© 1998, Salman Rushdie
All rights reserved
© В. Гегина, перевод на русский язык, 2008, 2025
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Издательство CORPUS ®
Милану
Не нужно монументов. Только розапусть в честь него цветет из года в год;а в ней Орфей; его метаморфозаи там и тут; что толку от заботоб именах других. Когда поется,поет Орфей…[1]Р.-М. Рильке, Сонеты к Орфею1
Властелин пчел
В день святого Валентина 1989 года, ставший ее последним днем, певица-легенда Вина Апсара проснулась от собственных рыданий. Ей приснилось, что готовится жертвоприношение, причем жертвой должна стать она сама. Мужчины с обнаженными торсами, похожие на актера Кристофера Пламмера, крепко держали ее за щиколотки и запястья. Ее нагое извивающееся тело было распростерто на гладко отполированном камне с изображением пернатого змея Кетцалькоатля[2]. Разверстая пасть птицы-змеи представляла собой выдолбленное в камне углубление. Рот Вины разрывался от отчаянных криков, но она слышала лишь потрескивание огней. Жрецы уже были готовы перерезать ей горло, но, прежде чем ее живая кровь с бульканьем пролилась в эту ужасную чашу, она проснулась – в полдень, в мексиканском городе Гвадалахара, в чужой постели, рядом с полумертвым незнакомцем – обнаженным метисом лет двадцати. Уже после катастрофы из поднятой газетами шумихи выяснилось, что это был Рауль Парамо, местный плейбой, наследник строительного воротилы, одной из корпораций которого принадлежал отель.
Она лежала вся в поту, на влажных простынях, издававших тоскливый запах их бессмысленного ночного соития. Рауль Парамо был без сознания; губы у него побелели, а тело безостановочно сводили судороги – точно такие, в каких минуту назад, во сне, корчилась она сама. Через несколько мгновений из его глотки вырвался жуткий клокочущий звук, словно ему перерезали горло и кровь через алую ухмылку невидимой раны хлынула в кубок-фантом. В панике Вина вскочила с постели, схватила свою одежду – кожаные брюки и расшитое блестками бюстье, в которых накануне вечером покинула сцену. С высокомерным отчаянием она отдалась этому юнцу вдвое моложе себя, выбрав его наугад из толпившихся за кулисами поклонников – прилизанных бездельников-ухажеров с охапками цветов, промышленных магнатов, аристократической швали, подпольных наркобаронов, королей текилы – с их лимузинами, шампанским, кокаином, а быть может, и бриллиантами, которыми они намеревались осыпать звезду.
Молодой человек пытался представиться ей, он льстил и заискивал, но ее не интересовали ни его имя, ни сумма на его банковском счете. Она выбрала его, как срывают цветок, и ей не терпелось зажать в зубах стебель; он был ужином с доставкой на дом, и она намеревалась его отведать; с устрашающим аппетитом хищницы накинулась на него, едва захлопнулась дверь увозившего их лимузина, еще до того, как шофер успел поднять перегородку, призванную скрывать частную жизнь пассажиров от любопытных глаз.
Потом этот шофер с благоговением говорил о ее обнаженном теле. Пока газетчики усердно потчевали его текилой, он шепотом рассказывал им о том, какой безмерно щедрой была нагота этой хищницы, какое это было чудо; кто бы мог подумать, что она уже разменяла сороковник, – наверное, кто-то там, наверху, заботился о том, чтобы это чудо сохранить. «Я бы сделал для нее всё, – стонал шофер, – я бы помчал ее со скоростью двести километров в час, если бы она захотела, я бы врезался ради нее в бетонную стену, если бы она пожелала умереть».
Только когда, кое-как прикрывшись первой попавшейся под руку тряпкой и плохо соображая, она оказалась в коридоре одиннадцатого этажа, где ее босые ноги испачкали типографской краской не востребованные постояльцами газеты, крупными буквами заголовков кричавшие о французских ядерных испытаниях в Тихом океане и политической нестабильности в южном штате Чиапас, – только тогда она поняла, что покинутый ею номер люкс – ее собственный и что, захлопнув за собой дверь, она осталась без ключа. К счастью, в этот момент полной беззащитности ей встретился не кто иной, как я, фотокорреспондент Умид Мерчант, он же Рай, ее, как говорится, дружок еще с бомбейских времен – единственный на тысячу и одну милю вокруг «рыцарь линз и затворов», способный не ухватиться за возможность запечатлеть ее в восхитительном и скандальном неглиже – совершенно растерянной и, что хуже всего, выглядящей на свой возраст. Я оказался тем единственным вором, который ни за что не согласился бы тайком украсть ее образ усталой, затравленной дивы, беспомощной, с мешками под глазами, со спутанной проволокой ярко-рыжих крашеных волос, трепетавших на ее голове, как хохолок у дятла, с дрожащим от растерянности прекрасным ртом, в уголках которого безжалостные годы прорубили крошечные фьорды, – архетип безумной рок-богини на полпути к безысходности и скорби. Она решила для этого турне покраситься в рыжий цвет, потому что в свои сорок четыре года ей пришлось начинать все сначала, начинать карьеру соло, без Него. Впервые за многие годы она оказалась на жизненном пути одна, без Ормуса, поэтому ничего удивительного, что большую часть времени она чувствовала себя обескураженной и сбитой с толку. И одинокой. Приходилось это признать. На публике ли или наедине с собой – никакой разницы; вот в чем заключалась правда: когда его не было рядом, то, с кем бы она ни была, она всегда была одна.
Потеря ориентиров[3]. Потеря Востока. И Ормуса Камы, ее солнца.
А то, что она наткнулась на меня, вовсе не было случайностью. Я всегда был рядом. Всегда готов явиться по первому ее зову. Если б она захотела, рядом оказались бы сотни, тысячи таких, как я. Но все же, думаю, был я один. И в последний раз, когда она позвала меня на помощь, я не смог прийти, и она умерла. Ее история оборвалась на середине: она была неоконченной песней; ей не дано было дочитать строки своей жизни до заключительной рифмы.
Через два часа после того как я извлек ее из бездны, разверзшейся перед ней прямо посреди гостиничного коридора, вертолет уносил нас в Текилу, где дон Анхель Круз, владелец одной из крупнейших плантаций голубой агавы и знаменитой винокурни «Анхель», джентльмен, известный своим сладкозвучным высоким тенором, куполообразным животом, а также хлебосольством, собирался дать в честь Вины банкет.
Тем временем молодого плейбоя, любовника Вины, доставили в больницу в наркотических конвульсиях, столь сильных, что они привели к трагическому исходу, а так как эта история выплыла на свет божий после того, что случилось с Виной, мир долго еще выслушивал подробные отчеты о составе крови умершего и его волос, содержимом его желудка, кишечника, мошонки, глазных впадин, аппендикса. Только его мозги никого не заинтересовали, поскольку так основательно спеклись от наркотиков, что никто не смог разобрать его последних, сказанных в коматозном бреду слов. Однако несколькими днями позже, когда информация об этом событии попала в интернет, один двинутый на фэнтези хлюпик из квартала Кастро в Сан-Франциско, скрытый под ником elrond@rivendel.com, объявил, что Рауль Парамо говорил на языке орсиш, инфернальном наречии, изобретенном писателем Толкином для слуг повелителя тьмы Саурона: «Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul». После этого по всей Паутине поползли слухи о сатанизме, или, возможно, «сауронизме», Рауля. Якобы любовник-метис был кровавым слугой преисподней и подарил Вине бесценное, но роковое кольцо, которое навлекло на нее последовавшую вскоре катастрофу и отправило ее в ад. Но к тому времени Вина уже начала превращаться в миф, она стала сосудом, который любой слабоумный мог наполнить собственным бредом, или, если угодно, стала зеркалом культуры, природу которой лучше всего отражает мертвое тело.
«Чтобы всех отыскать, воедино созвать и единою черною волей сковать». Во время нашего полета в Текилу я сидел рядом с Виной Апсарой и не видел на ее руке никакого кольца, если не считать лунного камня – талисмана, с которым она никогда не расставалась, который связывал ее с Ормусом Камой, был напоминанием о его любви.
Всех своих сопровождающих Вина отправила наземным транспортом, взяв с собой в вертолет лишь меня одного. «Из всех ублюдков он единственный, кому я доверяю», – огрызнулась она. Они отправились в путь часом раньше, весь ее чертов зверинец: змея-турменеджер, гиена – личный помощник, гориллы-телохранители, павлин-парикмахер и дракон – менеджер по связям с общественностью. Но сейчас, когда вертолет завис над их автокавалькадой, угрюмость, в которую Вина была погружена с момента нашего вылета, как будто рассеялась, и она велела пилоту несколько раз пролететь над кавалькадой, с каждым разом снижаясь все опаснее. Я видел его расширенные от ужаса глаза с черными точками зрачков, однако он, подобно нам всем, был околдован ею и исполнял все ее желания. Это я вопил в микрофон: «Выше, поднимись выше!» – и ее смех бился у меня в ушах, как хлопающая на ветру дверь; но когда я взглянул на нее, чтобы она поняла, как мне страшно, то увидел, что она плачет. Полицейские, обнаружившие Рауля Парамо на месте происшествия, вели себя на удивление тактично и ограничились предупреждением, что Виной может заинтересоваться следствие. На этом ее адвокаты закончили беседу, но Вина все еще была напряжена, словно натянутая струна; от нее исходило слишком яркое сияние, как от электрической лампочки, что вот-вот перегорит, как от сверхновой или целой Вселенной.
Мы миновали автокавалькаду и полетели дальше, над холмами и долинами, которые голубой дымкой покрывали плантации агавы. Настроение Вины качнулось, подобно маятнику, в другую сторону: она начала хихикать в микрофон, заявляя, что мы везем ее в несуществующее, фантастическое место, в страну чудес, – ведь не может же, в самом деле, быть на земле место под названием Текила. «Это все равно что сказать, будто виски делают в Виски, а джин – в Джине! – кричала она. – А Водка – река в России!» Потом, внезапно помрачнев, еле различимо из-за шума двигателей добавила: «А героин создают герои, и можно крякнуть от крэка». Вероятно, в тот момент я был свидетелем рождения новой песни. Потом, когда командира и второго пилота расспрашивали об этом перелете, они благородно отказались разглашать подробности воздушного монолога, во время которого ее бросало из восторга в безысходность. «Она была в приподнятом настроении, – сказали они, – и говорила по-английски, так что мы ничего не поняли».
Не только по-английски. Ибо я был единственным, с кем она могла болтать на вульгарном бомбейском жаргоне – Мумбаи ki kachrapati baat-cheet, – в котором предложение могло начаться на одном языке, продолжиться на втором и третьем и под конец вернуться к первому. Мы называли это наречие Hug-me[4], по названию языков, его составляющих: х – хинди, у – урду, г – гуджарати, м – маратхи и, конечно, e – еnglish, английский. Бомбейцы вроде меня плохо говорят на пяти языках и ни на одном из них – хорошо.
Оказавшись в турне без Ормуса Камы, Вина вдруг обнаружила границы своих песен, музыкальные и словесные. Она написала их специально, чтобы продемонстрировать свой божественный голос, этот совершенный, как у Имы Сумак[5], инструмент, лестницу в небо. Сейчас она жаловалась, что песни, которые сочинял Ормус, никогда не позволяли ей проявить голос во всем его диапазоне. Но в Буэнос-Айресе, Сан-Паулу, Мехико и Гвадалахаре публика приняла ее новый репертуар весьма прохладно, несмотря на то что в концертах участвовали три умалишенных бразильских ударника и пара аргентинских гитаристов-дуэлянтов, каждый раз угрожавших закончить свой музыкальный поединок настоящей поножовщиной. Даже специально приглашенный ветеран мексиканской сцены – суперзвезда Чико Эстефан – не вызвал у публики особого восторга. Его гладкая, благодаря усилиям пластических хирургов, физиономия и зубы, сияющие неправдоподобной белизной, лишь подчеркивали ее увядающую красоту. Это увядание отразилось, как в зеркале, в ее аудитории, среди которой преобладали люди скорее немолодые. Подростки не пришли, а если и пришли, то их было мало – меньше, чем нужно.
Зато каждый из старых хитов VTO встречали восторженным ревом, и невозможно было не видеть, что во время их исполнения чокнутые ударники приближались к божественному безумию, а дуэль двух гитар спирально возносилась в горние пределы, и даже старый пройдоха Эстефан, казалось, молодел на глазах. Стоило Вине Апсаре запеть слова и мелодии Ормуса Камы, и затерянная в толпе молодежь сразу же завелась; тысячи тысяч вскинутых рук начали двигаться в унисон, изображая на языке жестов название великой группы и скандируя:
– V! Т! О!
V! Т! О!
Вернись к нему, словно говорили они. Вы нужны нам вместе. Не бросайся своей любовью. Нам нужно не расставание, а примирение.
Вертикальный толчок. Вина – ты и Ормус. В переводе на «хаг-ми»: V-to. Или: как ракета – V–2. Или: «V» – как символ примирения, которого они жаждали, «Т» – символ двоицы – он и она, и «О» – символ их восхищения, их любви. Или – дань Викториа-Терминус-Оркестра, одному из самых больших зданий родного города Ормуса. Или название, которое много лет назад Вина углядела в неоновой рекламе безалкогольного напитка «Вимто», с тремя вспыхивающими буквами:
B… T…Ох-х.
В… Т…Ох-х.
Два стона и выдох. Оргазм прошлого, напоминание о котором она носила на пальце и к которому, возможно, знала, что вернется – несмотря на меня.
Полуденный зной был сух и яростен – ее любимая погода. Перед нашим приземлением пилоту сообщили о небольших подземных толчках в этом районе, но они прекратились, заверил он нас, так что можно смело садиться. «Проклятые французы, вот так после каждого их испытания: ровно через пять дней – раз-два-три-четыре-пять – пожалуйста, землетрясение», – ворчал он. Он посадил вертолет на пыльном футбольном поле в центре маленького городка Текила. Должно быть, все полицейские силы города собрались здесь, чтобы сдерживать толпу. Когда Вина Апсара величественно сошла по трапу (она всегда держалась принцессой и уже стала превращаться в королеву), раздался дружный крик – одно только имя: «Ви-и-и-на-а-а», в котором жажда видеть ее словно растянула гласные, и я – не в первый уже раз – осознал, что, несмотря на ее чрезмерно разгульную жизнь, выставленную на всеобщее обозрение, весь ее звездный антураж, ее накхрас, она никогда не вызывала у публики враждебных чувств; в ней было что-то обезоруживающее, и вместо желчи они исходили необъяснимой и беззаветной преданностью, словно она – новорожденное дитя всей земли.
Можете назвать это любовью.
Через заграждение прорвались мальчишки, которых преследовали обливающиеся потом полицейские, а затем появился и сам дон Анхель Круз в сопровождении двух серебристых «бентли», в точности повторяющих цвет его благородной седины. Он извинился, что не может приветствовать нас арией, – всему виной эта пыль, эта ужасная пыль, она всегда ему досаждает, а сейчас, из-за землетрясения, воздух просто полон ею.
– Прошу вас, сеньора, сеньор. – И, деликатно покашливая в запястье, он повел нас к переднему «бентли». – Мы сейчас же поедем, если позволите, и начнем нашу программу.
Он уселся во второй автомобиль, промокая пот гигантскими носовыми платками и огромным усилием воли удерживая на лице широкую улыбку. Казалось, его маска радушного хозяина вот-вот упадет, обнажив скрытое за ней отчаяние.
– Бедняга здорово напуган, – сказал я Вине, когда наш автомобиль двинулся в сторону плантации.
Она пожала плечами. В октябре 1984 года, участвуя в одной из рекламных кампаний журнала «Вэнити Фэйр», она села за руль роскошного лимузина, переехала по оклендскому Бэй-бриджу с восточного берега на западный, вышла из машины на заправочной станции и успела увидеть, как все четыре колеса ее машины поднялись над землей и повисли в воздухе, словно картинка из будущего или из фильма «Назад в будущее». В этот момент мост обрушился, как игрушечный.
– Не пугай меня своими землетрясениями. Рай, – сказала она хриплым голосом ветерана катастроф, когда мы подъезжали к плантации, где нас уже ждали служащие дона Анхеля с соломенными ковбойскими шляпами, которые должны были защитить нас от солнца, и виртуозы мачете, готовые продемонстрировать, как агава под ударами их ножей превращается в большой голубой «ананас», готовый к переработке. – Меня не возьмешь никакими Рихтерами, милый. Я пуганая.
Животные вели себя беспокойно. Скуля, носились кругами пятнистые дворняжки, в конюшнях ржали лошади. Над головой оракулами кружили птицы. Под подчеркнутой приветливостью и учтивостью дона Анхеля Круза почти физически ощущалась растущая сейсмическая активность. Он показывал нам свои владения: вот это – наши традиционные деревянные бочки, а это – наши сверкающие новые чудеса техники, наши инвестиции в будущее, колоссальные инвестиции, немыслимые деньги. Страх уже вытапливался из него каплями прогорклого пота. Он рассеянно промокал платками пахучий поток, а в цехе розлива его глаза еще больше расширились от горя, когда он осознал всю хрупкость своих богатств – жидкости, хранившейся в стекле, – и ужас перед землетрясением начал сочиться и из уголков его глаз.
– С начала ядерных испытаний продажи французских вин и коньяков упали чуть ли не на двадцать процентов, – бормотал он, качая головой. – Выиграли виноделы Чили и мы здесь, в Текиле. Экспорт так подскочил, вы даже не представляете. – Он вытер глаза дрожащей рукой. – Неужели Бог послал нам этот подарок, чтобы тут же забрать его обратно? Зачем он испытывает нашу веру?
Он смотрел на нас, как будто мы действительно могли дать ему вразумительный ответ. Убедившись, что ответа не последует, он вдруг схватил обе руки Вины Апсары и воззвал к ней как к судье, принужденный к недопустимой фамильярности чрезвычайными обстоятельствами. Она не сделала попытки освободиться.
– Я не был плохим человеком, – произнес он так, словно обращался к ней с молитвой. – Я был справедлив к своим работникам, добр к своим детям и даже верен своей жене, ну, кроме пары незначительных случаев, да и было это лет двадцать назад. Сеньора, вы просвещенная дама, вы поймете слабости пожилого мужчины. Почему же я дожил до такого дня? – Он склонил перед ней голову, выпустил ее руки и, сложив свои, в ужасе прикрыл ими рот.
Вина привыкла отпускать грехи. Положив руки ему на плечи, она заговорила с ним тем самым Голосом; она что-то нашептывала ему на ухо, словно любовнику, прогоняла землетрясение, как капризного ребенка, отправляя его в угол, запрещая ему впредь беспокоить замечательного дона Анхеля. И такова была чарующая сила ее голоса, самого его звучания, а не произносимых слов, что бедняга тотчас перестал потеть, поднял свою голову херувима и улыбнулся.
– Вот и хорошо, – сказала Вина Апсара, – а теперь давайте обедать.
На старой семейной асьенде, которая использовалась только для торжественных случаев, мы обнаружили длинный стол, накрытый в галерее, выходившей во внутренний дворик с фонтаном. При появлении Вины в ее честь заиграла группа марьячи. Затем подъехала автокавалькада, и из машин вывалился весь кошмарный рок-зверинец. Они суетились и визжали, отпихивая предложенную радушным хозяином выдержанную текилу, словно это были банки с пивом или вино в пакетах, они похвалялись тем, какие ужасы им довелось пережить, проезжая через район подземных толчков. Личный помощник злобно шипел, как будто собирался привлечь беспокойную землю к суду; турменеджер радостно скалился, как бывало, когда он подписывал новый контракт на позорных и рабских для другой стороны условиях; павлин метался, издавая нечленораздельные возгласы; гориллы односложно ворчали, а аргентинские гитаристы вцепились, как обычно, друг другу в глотку. Ударники же – ох уж эти ударники! – разогретые текилой, стараясь заглушить воспоминания о пережитой опасности, пустились громогласно обсуждать недостатки исполнительского мастерства марьячи, глава которых, ослепительный в своем серебристо-черном наряде, с силой швырнул о землю сомбреро и уже потянулся было за висевшим на бедре шестизарядником, но тут вмешался дон Анхель и для всеобщего примирения великодушно предложил:
– Пожалуйста, если позволите, я развлеку вас своим пением.
Настоящий тенор способен заглушить все споры; его божественная сладость, подобно музыке сфер, заставляет нас устыдиться мелочности наших устремлений. Дон Анхель исполнил «Trionfi Amore» Глюка, причем марьячи недурно справлялись с ролью хора для его Орфея.
Trionfi Amore!E il mondo intieroServa all'imperoDella belta.Несчастливый конец истории об Орфее, который оглянулся назад и навек потерял свою Эвридику, всегда представлял проблему для композиторов и либреттистов. «Эй! Кальцабиджи[6], что это за концовку ты мне принес? Какая тоска! Я что, по-твоему, должен отправить зрителей домой с вытянутыми физиономиями, будто они лимона наелись?! Сделай конец повеселее!» – «Конечно, герр Глюк, не надо так волноваться. Нет проблем! Любовь – она сильнее, чем ад. Любовь смягчает сердца богов. Может, сделать так, чтоб они отправили ее обратно? „Топай отсюда, детка, этот парень по тебе сохнет! Подумаешь, один взгляд, какая ерунда“. А потом влюбленные закатывают праздник – да какой! Танцы, вино рекой, всё по полной программе. Получается отличный финал, публика расходится, напевая». – «А что, звучит неплохо. Молодец, Раньери». – «Рад стараться, Виллибальд. Не стоит благодарности».
И вот он, финал. Триумф любви над смертью. Любовь всем миром владеет полновластно. К величайшему удивлению присутствующих, включая меня, Вина Апсара, рок-звезда, поднялась и исполнила обе партии сопрано – Амура и Эвридики. И, хоть я не великий знаток, сделала это, с моей точки зрения, безупречно, не погрешив ни единым словом, ни единой нотой. В ее голосе был экстаз свершения: ну что, казалось, говорил он, вы наконец-то поняли, каково мое предназначение?
E quel sospettoChe il cor tormentaAl fin diventaFelicità.Измученное сердце не просто находит счастье, оно само становится счастьем. Такая вот история. По крайней мере, так поется в песне.
Земля, словно аплодируя ей, содрогнулась как раз в тот момент, когда она умолкла. Весь громадный натюрморт – блюда с мясными деликатесами, вазы с фруктами, бутылки лучшей текилы «Круз» – и даже сам банкетный стол начали по-диснеевски трястись и подпрыгивать, словно все эти неодушевленные предметы были приведены в движение подмастерьем чародея, самонадеянным мышонком, или подчинились властному призыву Вины присоединиться к заключительной арии. Теперь, когда я пытаюсь восстановить точную последовательность событий, они проходят в моей памяти подобно кадрам немого кино. А ведь им должен был сопутствовать шум. Пандемониум, обиталище демонов, с его муками ада, едва ли мог быть более шумным, чем этот мексиканский город, где по стенам домов, как ящерицы, поползли трещины, разрывая стены асьенды дона Анхеля своими длинными жуткими пальцами, пока она не рухнула, как видение, как студийная декорация. А когда рассеялась туча пыли, поднятая ее падением, мы обнаружили себя на проваливающихся, уходящих из-под ног улицах. Мы неслись сломя голову, сами не зная куда, не останавливаясь ни на мгновение, а с крыш на нас летела черепица, поднимались в воздух деревья; сточные воды, вырвавшись из труб канализации, били фонтанами; дома разваливались, и с неба сыпались лежавшие с незапамятных времен на чердаках чемоданы.
Но я помню лишь безмолвие – безмолвие великого ужаса. Если точнее – безмолвие фотографии, которая была моей профессией, поэтому вполне естественно, что, когда началось землетрясение, я тут же стал снимать. Теперь я мог думать только о маленьких квадратиках пленки, проходивших через все мои фотокамеры – «фойгтлендер-лейка-пентакс», об очертаниях и красках, что оставались на них благодаря случайностям событий и движений, а также, разумеется, моей способности в нужный момент направить объектив в нужную точку. Здесь царило вечное безмолвие лиц и тел, животных и даже самой природы, схваченных, разумеется, моей камерой, но и скованных ужасом перед непредсказуемым, мукой утраты, сжатых мертвой хваткой этой ненавистной метаморфозы: оцепенение жизни в момент ее уничтожения, превращения в прошлое, в золотой век, к которому нет возврата. Ведь если вам случилось пережить землетрясение, даже не получив ни единой царапины, вы знаете, что оно, как инфаркт, навсегда оставляет неизгладимый след в груди земли – затаенную угрозу вернуться, чтобы поразить вас снова, с еще более разрушительной силой.
Фотография – это нравственный выбор, сделанный в одну восьмую, одну шестнадцатую, одну сто двадцать восьмую секунды. Щелкните пальцами – щелчок фотоаппарата быстрее. Нечто среднее между маньяком-вуайеристом и свидетелем, художником и подонком – вот что такое моя профессия, мои решения, принятые в мгновение ока. Это круто; это то, что надо. Я все еще жив; меня обзывали последними словами и оплевывали всего лишь тысячу раз. Пускай! Кого я по-настоящему опасаюсь, так это мужчин с огнестрельным оружием. (Это почти всегда мужчины, все эти Шварценеггеры с терминаторами, эти остервенелые самоубийцы с колючей щетиной на подбородке, напоминающей ершик для унитаза, и голой, как у младенцев, верхней губой; если же за это дело берутся женщины, они бывают во сто крат хуже.)