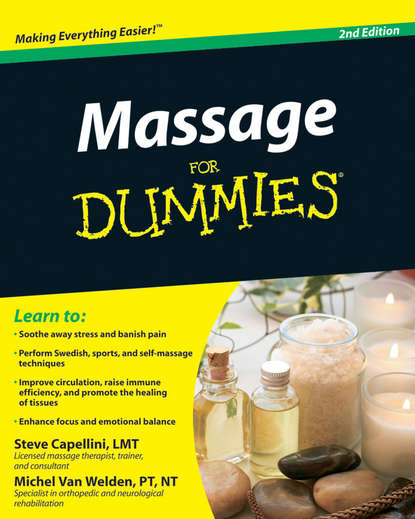Ребенок в тени презрения и стыда

- -
- 100%
- +

© Рустем Маратович Стахорный, 2025
ISBN 978-5-0068-1184-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Две недели назад мама сообщила, что у неё рак. Это было в субботу утром. Я, как обычно, сидел за компьютером в наушниках. Бабушка и сестра ещё спали. Она подошла ко мне. Я, как всегда, пытался слушать её одним ухом, а другим – музыку. Сначала говорила о бытовом, а потом просто взяла и сказала это. Без подводки. Без паузы. Как будто сообщает, что хлеб закончился.
– Руся, у меня рак горла. Мне остался год или два. В больницу я не лягу. Вон маму твоего папы тоже положили, вырезали всё горло – и что? Через полгода и сама всё. Никому не говорила, кроме тебя…
Вот так просто, без прелюдий и пояснений, я начал жить с мыслью, что человек, с которым я живу, и который выглядит абсолютно здоровым, умрёт через год или два. Зачем она это сказала? За что? Почему именно я должен нести это крест один? Почему я? Неужели она просто смирилась? Как вообще можно смириться с тем, что ты скоро умрёшь? Думает ли она об этом? Как можно жить, зная, что обречён? Я даже не знал, что она ходила в больницу. Не знаю, как она получила диагноз, какое было у неё лицо в этот момент. Интересно, плакала ли она или приняла это спокойно? Но как можно спокойно принять, что у тебя рак? Я боюсь даже представить её слёзы после похода в больницу. От одной этой мысли у меня ком в горле.
Она никому не сказала, кроме меня. Но собирается ли она говорить? А если нет? Теперь я просто живу с этим. Я понимаю, что она доверяет мне, любит меня. Но неужели она считает, что, сказав это только мне, она сделала мне дар душевной близости? Если любит – зачем взвалила на меня такую ношу?
Неужели думает, что так будет лучше? Разве не понимает, что чем дольше мы молчим, тем труднее будет потом? Или она вообще не собирается об этом говорить? За эти дни в её поведении не изменилось ничего. Даже о визите в больницу я узнал только после признания. Она была такой же, как всегда. И сейчас – ведёт себя так, будто ничего не произошло. Будто судьба не повернулась к ней спиной. Будто она не вот-вот превратится из живого, тёплого человека – в часть холодной земли. Что спасает её от страха? Как она каждую ночь засыпает, зная, что остался год, может, меньше? Как можно думать о чём-то, когда смерть – не абстракция за горизонтом, а вот она: зима, весна, лето, осень – и всё. Неужели этот цикл закончится, как её жизнь?
Моя мать – верующая. Она не ходит в церковь, но иконы стоят на подоконниках. Как и любая мать, пережившая девяностые, она привыкла обращаться к Богу в трудные моменты. Но может ли одна только вера отстранить от страха смерти? Неужели она подавляет инстинкт самосохранения? Говорят, быть атеистом – значит иметь мужество. Но мужество не в иронии и презрении к религии. Настоящее мужество – это перед бездной смерти смириться с тем, что дальше ничего не будет. Я не верю в подход атеистов. Все мы, оказавшись у края, уверуем. Неважно – в Бога, в другой мир, или в то, что всё это симуляция. Вера – это всё, что спасает от бессмысленного барахтанья в океане одиночества. Космического и человеческого. Вера в смысл, в любовь, в идеалы. Только она даёт мне возможность заснуть. Но неужели вера мамы настолько сильна, что даже сейчас даёт ей спокойствие?
Мама. Сколько всего в этом слове для меня. Я ни к кому не испытываю одновременно столько любви, презрения, жалости и сочувствия. Мама – самое амбивалентное, что у меня есть.
Самое тёплое воспоминание связано с ней, когда мне было тринадцать. Я лежал в психоневрологическом диспансере. С детства у меня были судороги – что-то вроде эпилепсии, как у Достоевского. К счастью, после четырёх лет они прошли. Но родители не хотели, чтобы я пошёл в армию, и мне приходилось регулярно ложиться в диспансер. Припадки прошли, но чтобы не снимали с учёта, нужно было врать: якобы у меня приступы агрессии и головные боли.
Мне всегда было неловко сидеть в узком кабинете у врача. Я сидел на кушетке, сцепив пальцы, смотрел в пол. Мама тем временем уверенно сочиняла истории о том, какой я больной ребёнок. Я понимал, что она врёт ради моего будущего, но даже тогда мне хотелось сказать: я нормальный. Я такой же, как все. Место само по себе было тяжёлое. Особенно для ребёнка. Каждый раз, попадая туда, я первую ночь плакал в подушку. Отбой был рано, заснуть тяжело. Через пару дней привыкал. Так было всегда. Обычно я лежал там месяц.
К счастью, диспансер находился в десяти минутах от дома, и мама навещала меня каждый день. Приносила еду, сладости. Я особенно запомнил тот день, когда мы сидели на лавочке у диспансера. Я ел мягкое пюре с котлетой, смотрел в её телефон. Тогда мама казалась мне единственным светлым пятном во всём этом. Единственной причиной дотерпеть. Я до сих пор помню вкус этого пюре и запах маминых духов. Даже сейчас, вспоминая это, у меня становится тепло на душе.
Только одна деталь в этом воспоминании вызывает у меня неловкость. Дело в том, что только ко мне мама приходила каждый день. Поэтому всегда было немного стыдно, когда я сидел в игровой с другими детьми, и заходила медсестра со словами: «Стахорный, иди на свидание». К многим детям вообще никто не приходил. Многие приехали из городов-спутников или деревень – добираться было трудно.
Ещё мне было грустно от того, что больше половины детей были с психическими особенностями. Кто-то не контролировал эмоции и силу, у кого-то были отклонения в развитии, у некоторых – формы аутизма. Моя болезнь никак не затрагивала умственные способности, и я сильно выделялся на фоне остальных.
Когда по утрам приходила медсестра заниматься с нами учебой, я легко отвечал на любые вопросы. Всё было из школьной программы. Но вскоре я заметил, что остальные начали обращать внимание на то, как мне всё легко даётся. И тогда я немного сбавил темп. Не то чтобы меня кто-то за это осуждал – наоборот, говорили, что я молодец. Но сам факт, что я будто соревнуюсь с ними, вызывал у меня дискомфорт. Я продолжал отвечать, но не так часто – давал шанс другим.
Распорядок дня был, как в любой больнице: ранний подъём, зарядка, завтрак, затем занятия, обед, тихий час, полдник, свободное время перед ужином и отбой в девять. Развлечений было мало. Настольные игры, шахматы, рисование на белых листках карандашами. В игровой стоял телевизор, но выбор контента ограничивался тремя-четырьмя мультфильмами. В итоге за месяц мы могли посмотреть один и тот же десять раз. Иногда кто-то приносил CD-диски, но это случалось редко. Если я лежал летом, нас выпускали гулять на огороженную территорию – на час. Там разрешали играть в карты, бегать. В целом, всё это напоминало очень дешёвый детский лагерь. Только выйти оттуда просто так было нельзя.
Наша палата находилась на третьем этаже диспансера. На четвёртом – взрослое отделение. Однажды меня отправили на второй этаж, где были процедурные кабинеты. Там мне делали, например, иглоукалывание и МРТ головного мозга.
И вот в тот день, когда я спускался с третьего на второй этаж, меня сильно напугал один из пациентов взрослого отделения. Пока я ждал, как медсестра закроет дверь на втором этаже, ко мне с лестницы подошёл огромный, даже по меркам взрослого, мужчина. Он был не только высокий, но и весил, казалось, не меньше ста двадцати килограммов. Он протянул мне руки и очень детским голосом сказал:
– Салам.
Я буквально вжался в стену на ступеньках. Мне казалось, он может раздавить меня одним шагом. Но сразу за ним я увидел медсестру – и немного успокоился. Я понял: он не опасен. У него даже не было плохих намерений. Это был просто ребёнок в теле большого человека, пытавшийся подружиться. У него была широкая улыбка и кучерявые волосы. Одет он был в лохмотья: майку и шорты, покрытые дырками и давно выцветшие. Видимо, если кто и покупал ему одежду, то очень редко.
Той ночью, засыпая, я думал: а что, если я стану таким же? Сознание останется, но из-за того, что я так часто здесь, они могут просто не выпустить меня. И в итоге я сойду с ума.
Если говорить о процедурах в диспансере, то они мне нравились. Хотя бы потому, что разбавляли рутину. Пару раз в неделю я ходил на массаж. Было больно, но со временем я почувствовал результат. Я меньше стал сутулиться и боли в шеи прошли. Делала мне массаж бабушка, которая выглядела лет на девяносто. От неё пахло сиренью, а кабинет всегда был залит солнцем. В моих воспоминаниях даже её лицо скрыто в этих лучах. Ещё я пару раз в неделю ходил к психологу. Мы решали логические задачки – мне это очень нравилось. С каждым разом они становились сложнее, и, решая их, я тешил своё эго. Мне казалось, что я соревнуюсь с другими детьми, хотел побить некий рекорд. Хотя, конечно, никакого рекорда не было – просто моя фантазия. А вот разговоры по душам мне не нравились. Помню, речь зашла о семье. На вопрос про отца я заплакал. Даже не знаю почему. Просто сказал, что папа всегда на работе и у него нет на меня времени.
Был один фактор, усиливавший мою сентиментальность – таблетки. Каждый день во время еды нам их выдавали. У каждого ребёнка – свои. Как я понял, это были витамины, назначенные лекарства и что-то вроде успокоительного. Потому что за время пребывания там я становился вялым, медленно двигался и долго соображал. Но самое неприятное – это повышенная чувствительность и эмоциональность.
Во время первого пребывания я пил всё, что давали. В следующие разы просто делал вид. После еды шёл в туалет и смывал таблетки. Получалось не всегда – иногда проверяли, и прятать под язык было бесполезно. Приходилось глотать. Пару раз я попадался, но, к счастью, серьёзных наказаний не было.
До сих пор не знаю, что за успокоительное нам давали. Но этично ли использовать его на детях? Понимаю, что таблетки помогали снизить риск девиантного поведения, но ощущения от них были ужасными.
Если говорить о персонале, то девяносто процентов составляли женщины лет сорок-пятьдесят. Некоторые были очень приятными – с ними можно было поговорить. Одна часто говорила, что я напоминаю ей сына. Но были и неприятные. Например, одна женщина иногда била особенно непослушных детей. Как я уже писал, многие дети здесь были не совсем здоровыми, и словами их успокоить было сложно. Пару раз я видел, как медсестра грубо хватала ребёнка или даже ударяла. Это было тяжело видеть. Особенно грустно, что такое происходило с теми, к кому никто не приходил. Им и пожаловаться было некому. Они были полностью беззащитны. И это ощущение, что я не могу им помочь, вызывало во мне злость. Да, такое случалось нечасто, но каждый раз чувство несправедливости и бессилия будто тошнотой подступало к горлу. Так как развлечений почти не было, главное – это общение с другими детьми. Обычно я был одним из самых старших, поэтому общался только с ровесниками. Большая часть моих ровесников были из детдомов. Как оказалось, детей из детдомов ставили на учёт автоматически. У тебя нет семьи? Значит, точно псих. Наверное, такая логика. Узнал я об этом во время своего первого приезда.
Общаясь с такими детьми, я заметил, что у них почти у всех плохо развита речь. Даже не столько словарный запас, сколько сама способность держать нить рассказа. Но это не мешало нам проводить время вместе.
Дети из детдомов часто рассказывали, как дерутся с другими или как их бьют воспитатели. В последний раз я встретил там ребят, которых завербовали в секту. Они часто спрашивали, верю ли я во Всевышнего, и говорили про Его путь. Я обычно вежливо уходил от темы.
Также были дети из неблагополучных семей или те, кто сделал что-то плохое – их направляли сюда на «перевоспитание». Один мальчик сломал нос и лицо однокласснику. По его словам, ему сказали, что лучше попасть сюда, чем в детскую тюрьму. Другой нюхал клей на гараже – его поймали люди в форме. Почему он нюхал клей и где в это время были его родители – никто не спрашивал.
Забавно, но некоторых, с кем я лежал, я потом встречал на улице или в университете. Иногда подходил, но почти все говорили, что не помнят ни меня, ни то, что вообще лежали в таких местах. Но мне всегда радостно встретить кого-то оттуда. Что-то тёплое внутри просыпается. Чувство родства, близости.
Я искренне надеюсь, что у всех, с кем я лежал, всё хорошо. Что они живы и здоровы.
Поездки в диспансер всегда отрезвляли меня. Только там я по-настоящему осознавал, как сильно люблю маму, как люблю папу и сестру. Какое это счастье – иметь дом. И быть здоровым. Мне никогда не было стыдно говорить об этом опыте – даже одноклассникам. Наоборот, я чувствовал в этом что-то особенное. Будто я к чему-то причастен. Что-то понял, что другим неведомо.
Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что мне необязательно было лежать там. Родители хотели, чтобы меня не забрали в армию, но теперь можно отслужить всего сорок дней и заплатить определённую сумму. Тогда им казалось, что это лучший выход. Хотя, учитывая постоянную нехватку денег в семье, думаю, им проще было отправлять меня в диспансер, чем заплатить.
Нехватка денег часто заставляла меня чувствовать себя неполноценным. Я не скажу, что мы были очень бедными – нам обычно хватало на еду, у меня была чистая одежда и обувь. Но мы всегда жили «в ноль». Никаких сбережений родители не делали. В отпуск за границу или хотя бы в другой город мы позволить себе не могли. Мы вообще редко куда-то ездили. Поэтому, когда слышал, что кто-то из одноклассников куда-то летал летом, мне было завидно.
У меня есть всего несколько воспоминаний, когда еды вообще не было. Одно из них – когда мне было три года, и я утром ел сахар ложкой из тарелки. Это одно из самых ярких воспоминаний детства. Тогда мне не казалось, что мы бедные, и момент не казался грустным, но папа рассказывал, что чуть не расплакался, глядя на меня. В то время мы жили с бабушкой, дедушкой и сестрой мамы.
Я уже тогда не любил бабушку. Как-то она шла по двору пьяная, шатаясь из стороны в сторону. Я играл в песочнице, рядом были другие дети. Они её увидели – и мне стало очень стыдно. Спустя годы, узнав, как она плохо обращалась с мамой – била её, издевалась, заставляла делать всё по дому – я стал испытывать к ней настоящее презрение.
Более того, мама рассказывала, как однажды бабушка продала её другим мужчинам. Мне всегда было стыдно и больно это слышать, поэтому я никогда не расспрашивал, как это произошло. Даже сейчас, когда пишу об этом, моё тело съёживается.
Дедушка был приёмным отцом мамы. Это единственный факт, который меня радует – у меня нет с ним кровной связи. Помню, однажды, в те самые голодные времена, папа застукал его ночью за тем, как он ел колбасу, спрятанную под подушкой. Мразь – наверное, самое точное слово, которым можно его описать.
Мама рассказывала, что он часто издевался над ней. Она была отличницей до четвёртого класса, но, когда ей стало не в чем ходить в школу, учиться стало трудно. Дед специально не покупал ей одежду. Зато сестра мамы – его родная дочь – была любимицей. Он баловал её сладостями и новой одеждой.
Как иронично, что когда дед оказался прикован к постели, любимая дочь даже не навещала его в больнице. А мама, наоборот, всё время была рядом во время его болезни. Я помню, как он плакал и просил у неё прощения за всё, что сделал. Это было за несколько дней до смерти. Мама, конечно, простила его. Но мне всё это казалось неискренним. Жалким. Относиться к человеку плохо тридцать лет, а потом, на смертном одре, просить прощения – в надежде на искупление. Мне казалось это не раскаянием, а страхом перед адом. Мама потом сильно плакала после его смерти. Но даже тогда мне это казалось странным. Как можно сочувствовать такому мерзкому человеку? Жил как падаль, так и умер.
Прошу прощения у читателя за излишнюю агрессию, но я до сих пор чувствую к нему злобу с презрением.
Хочется сказать пару слов и о сестре мамы – женщине с трагичной судьбой. Уже более двадцати лет она живёт с безработным мужчиной. У неё двое детей. Работает старшей акушеркой в роддоме. Где-то год назад мама рассказывала, как Таня – так её зовут – поймала «синьку». Наглоталась препаратов и спирта, прожгла себе всё горло и желудок. Долгое время после этого она ела через трубочку и писала под себя.
Вообще, алкоголь – причина многих трагедий в семье по маминой линии.
Сейчас с сестрой мамы всё хорошо. Мы никогда особо не общались. Видел её последний раз лет шесть назад. Тогда она рассказывала о своих националистических взглядах. Было не особо интересно.
Если родителей мамы я хотя бы немного знаю, то родителей моего отца я практически не видел. Моего отца воспитывала одна мама. Не знаю, что стало с его отцом – ушёл он из семьи или умер, мне неизвестно. Единственное, что говорит отец о дедушке, – что тот был очень умным, и что я, возможно, пошёл в него.
Бабушка много работала, чтобы прокормить отца. У него была сестра, но когда ему было шесть лет, она уехала к отцу. Папа часто вспоминает о ней. В какой-то момент он пытался её найти, но попытка оказалась тщетной.
Сейчас, зная историю семьи отца, я стал относиться к нему снисходительнее. Ведь как я могу требовать от него быть хорошим отцом, если он сам не знает, что такое отцовское тепло и забота? Мама моего отца жила на окраине города. У неё была алкогольная зависимость. Отец пытался лечить её, но она успокаивалась лишь ненадолго. В первом моём воспоминании о ней она уже была с прорезью в горле. У неё стояла трубка, через которую она могла дышать. По словам отца, у неё был рак горла из-за постоянного курения. Из-за этой трубки она говорила очень низким, пугающим голосом. Он был похож на голос Дарта Вейдера. Это вызывало у меня страх.
Я помню всего две или три поездки к ней, и то смутно. Последний раз мы навещали её жарким июльским днём лет пятнадцать назад. Солнце стояло в зените, я тогда сильно вспотел. Мы с мамой приехали к ней по какому-то важному делу. Поднялись на четвёртый этаж, постучали – дверь оказалась открытой. Бабушка часто собиралась с соседями по лестничной клетке, чтобы выпить, поэтому мы не удивились. Подумали, что она, возможно, у соседки. Мама вошла в квартиру и начала звать бабушку. Я же, не выдержав духоты, расстегнул все пуговицы на своей рубашке без рукавов. Но это не помогло, и я пошёл на балкон, чтобы немного подышать.
– Я пойду на балкон, подышу, – сказал я.
– Хорошо, только осторожно, – ответила мама. Открыв дверь, я увидел косяк птиц, пересекавших небо. Опустив взгляд, заметил бетонные перила, которые показались мне, четырёхлетнему, огромными. От них веяло прохладой, так и хотелось к ним прикоснуться. А потом я опустил взгляд на пол балкона – и увидел ноги в сандалиях. Это были бабушкины сандалии.
Я понял, что она умерла.
Тогда я ещё не понимал, что такое смерть. Мне казалось, это просто очень долгий сон. Я позвал маму. Она пыталась её разбудить, проверяла пульс, но всё было тщетно. Она вызвала скорую, а потом упала на колени возле меня и заплакала. Мама держала меня за руку и рыдала. Я пытался её утешить, говорил, что всё хорошо. Что не надо плакать.
Я не посмотрел тогда на лицо бабушки. Увидел её ноги – и этого хватило. В моей памяти остались только эти ноги в сандалиях. Сейчас, спустя столько времени, я уже не помню ни её лица, ни фигуры, ни одежды. Только ноги.
Позже оказалось, что перед смертью бабушка переписала квартиру на соседку – за пару бутылок водки. Это сильно выбило отца из колеи. Они с мамой пытались судиться, но всё оказалось тщетным. Документ есть, подпись есть – и никому не важно, в каком состоянии он был подписан. Так отец остался без наследства. После этого случая о бабушке по папиной линии мы не говорим. Эта тема в нашей семье – табу.
У бабушки был рак горла. У мамы теперь – тоже. Хорошо, что я не курю. Возможно, у меня есть генетическая предрасположенность – и по материнской, и по отцовской линии.
К отцу у меня тоже смешанные чувства. С одной стороны, он бросил пить, когда мне было два года, и не пьёт уже двадцать два года. Мама говорит, что он сделал это из-за любви ко мне. С другой стороны – это человек, который часто избивал маму и издевался над ней.
Это человек, который в голодные нулевые, когда не было ни работы, ни денег, ездил на дачу к соседям копать картошку, чтобы дома было хоть что-то поесть. Но это же и человек, который никогда не проводил со мной время и не интересовался, чем я живу.
Он создал в доме атмосферу тирании и страха. Из-за этого я стал бояться мужчин. Ожидать от них опасности. Даже сейчас, общаясь с кем-то, я невольно думаю: смогу ли я победить его в драке? Сможет ли он убить меня, если захочет?
Папа последние годы жил в командировках. Дома он почти не появлялся, а после того как они с мамой разошлись – тем более.
Одно из первых моих воспоминаний из детства связано с фотографией. Тогда мне было три года, и у нас дома была фотография, где я сижу в коляске. Обычная детская фотография: на мне синяя футболочка, жёлтая панамка, а на ногах – маленькие сандалии. Снимок был сделан возле нашего дома. Коляска стояла на тротуаре, а над ней – нежное летнее солнце.
Но каждый раз, когда я смотрел на эту фотографию, я начинал плакать. Я спрашивал у мамы и папы: «Почему я один здесь?» Они отвечали, что просто были за кадром, пытались успокоить меня и обнимали. Интересно, что уже в три года я был достаточно осознанным ребёнком. И даже тогда мне казалось, что нет причины плакать, но моё детское бессознательное всегда было сильнее. Почему именно эта фотография вызывала слёзы – для меня до сих пор загадка.
Я был тихим ребёнком. Мама с папой целыми днями работали. Родители рассказывали, что высыпали игрушки на пол – и я мог играть сам с собой часами. Я не кричал, не капризничал, мне было комфортно наедине с собой.
Из-за того, что я много времени проводил один, у меня развилась бурная фантазия. Я обожал придумывать. Часто представлял, что игрушки живые и общаются между собой. Мечтал быть супергероем, спасать людей. Из-за нехватки внимания я был зависим от одобрения, и роль спасителя меня привлекала.
Я старался помогать по дому, чтобы меня похвалили. Однажды даже попытался пропылесосить комнату. К сожалению, пылесос сломался, и больше мне его не давали. А после этого вообще запретили помогать по дому.
Когда мне было четыре года, во мне обострилось чувство справедливости. Помню, я познакомился с мальчиком со двора, у которого была большая коллекция резиновых динозавров. Однажды он сказал, что потерял одного – вроде бы забыл в песочнице, но теперь его там нет. Мы долго искали, но не нашли.
На следующий день я увидел, как другой ребёнок играет с точно таким же динозавром. Я ни секунды не раздумывал: подбежал, выхватил игрушку и помчался домой. Мы тогда жили на девятом этаже, лифта не было, но я был в таком эмоциональном подъёме, что добежал до квартиры без отдышки. Мне казалось, что я совершаю великое дело. Буквально подвиг Геракла. Представлял, как сильно обрадуется мой новый друг.
Я всё рассказал маме. Она быстро поняла, что происходит, и мы вместе пошли во двор устраивать очную ставку. К сожалению, моё ликование длилось недолго. Оказалось, что это был не тот динозавр. Просто очень похожий. Мне пришлось вернуть игрушку и извиниться.
Я был разочарован. Казалось, что я был так близко к тому, чтобы стать тем, кем представлял себя в фантазиях: сильным, мужественным, храбрым Рустемом.
Когда мне было шесть лет, произошло два события: у меня появилась младшая сестра, и я пошёл в школу. Моя мама была худощавого телосложения, возможно, поэтому я даже не помню её беременной. Я помню, как мы забирали маму и сестру из роддома. Для моих родителей это было радостное событие, а я не чувствовал ничего. Более того, со временем я невзлюбил сестру.
Она была пухленькая, с нахмуренными глазами, и в моих воспоминаниях редко улыбалась. Сейчас я понимаю, что всё это было из-за ревности. Мне не хватало любви от мамы и папы, и я проецировал свою фрустрацию на сестру. Я не был вовлечён в её воспитание. Наоборот – между нами часто возникали конфликты. Однажды я проснулся в кровати. Рядом сидела моя сестра и ела конфеты из желе. Я взял несколько конфет и положил себе в рот, делая вид, что сплю. Я ждал, когда в комнату войдут родители и увидят, будто это она положила мне конфеты в рот. Я надеялся, что её отругают. Но родители так и не пришли. В итоге я сам подошёл к маме и рассказал эту фальшивую историю. Мама никак не отреагировала.
С течением времени, по мере того как сестра росла, я ненавидел её всё больше. Это была беспричинная ненависть, ничем не обоснованная. Помню, как пару раз я даже сильно толкал её. Сейчас мне очень стыдно это вспоминать. Я был отвратительным старшим братом. Стыд, который я испытываю из-за этого, вызывает у меня тошноту. Меня вообще часто тошнит. Возможно, это из-за слабого здоровья.