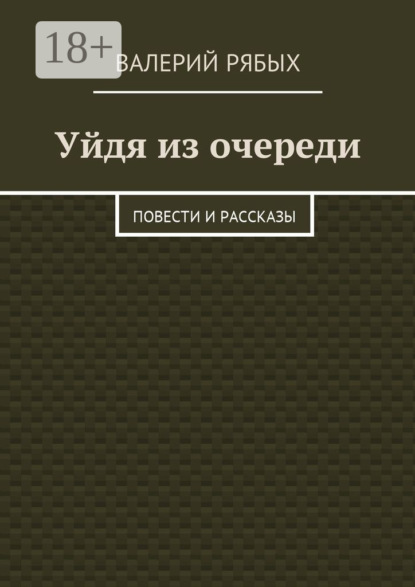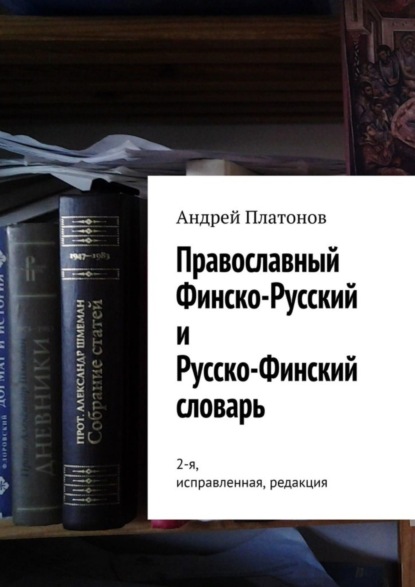- -
- 100%
- +
Михаил подвинул брезентовый мешок к углу стола, велел старику Бородину садиться, кликнул замешкавшегося Филата.. Старик бережно, словно курица-наседка, опустился на свой стул, вперив преданный взор в Облова, но тот сохранял непроницаемое выражение лица, отгадать его умысел было невозможно. Тяжело сопя, протиснулся к столу Филат. Михаил молча указал ему на место рядом с отцом. Бородины вопросительно переглянулись, уселись как на поминках, сложив руки на коленях. Облов видел, что они корчат из себя святую простоту. Ах, подлецы, ети их мать?!
– Кузьма Михеич, – Облов, иезуитски сощурив глаза, удавьим взором вперился на старшего Бородина, – может, покаешься старый хрен? Бог-то он все видит!
Бородин испуганно встрепенулся, но это была лишь сиюминутная слабость с его стороны, он тотчас взял себя в руки, сотворив благостное выражение физиономии, запричитал медовый голоском:
– Не пойму я, чего изволите Михаил Петрович? Я ведь исполнил ваш приказ, все туточки! Можете проверить, ничегошечки не потаил – все здеся, копеечка к копеечке… – старик протянул подрагивающие руки к тесьме сумы.
– Оставь чувал в покое Михеич. Странно как-то ручонки у тебя дрожат? Может чего боишься, а Кузьма, так поделись со мной, открой душу-то? – и, поняв, что Михеич не прекратит валять Ваньку, уже властно, с металлом в голосе произнес. – Отвечай старик, когда с тобой Облов говорит, – но видя упорство, уже не выдержал, и стукнул кулаком по столу. – Что сука, мало я тебе добра передавал, мало ты, гадина, потырил у отряда, захотел все хапнуть? Ну, падла, не молчи, отвечай!
– Грех Вам, Михаил Петрович так-то шутить над старым человеком. Я ли Вам, батюшка, не служил, как преданный пес, я ли вам не угождал?
– Я давно знаю, что ты Кузьма не пес, ты собака продажная! – Облов отодвинулся от стола вместе со стулом, откинулся на спинку, положил ногу на ногу. – Я давно за тобой приметил, возжаждал ты, сволочь, свободы. – Облов смачно сплюнул на пол. – Меня захотел краснопузым сдать?! А себе, значит, наш общак присвоить?!
– Михаил Петрович, побойся Бога! Такие слова, такую хулу на меня безвинного возводишь?! Да я ни одной мыслишкой, ни одним словцом против тебя не шел. Вот и Филатка подтвердит…. Правильно я говоря, а Филат?
Парень сидел остолбенев, словно набрав в рот воды от страха. Бородин в отчаянье безнадежно махнул на него рукой, мол, что с дурака возьмешь.
– Михаил Петрович, да вы какой-то поклеп на меня возводите? А может у вас, с похмелюги настроенья-то нет? Так, давай сейчас, сядем рядком, хряпнем нашего, домашнего изготовления и все ваши подозренья, как дурной сон улетучатся. Да где это видано, чтобы я своего благодетеля подводил?! Да я с вашим батюшкой, царствие ему небесное, еще дружбу-то водил, неужто забыли, Михийла Петрович?
– Я ничего не забыл Кузьма, все помню, и вот поэтому я тебя, змей ты изворотливый, ни за что не прощу! – Ослов быстро встал на ноги, заметил затейливое движение локтей старика. – А, ну – руки на сто! Кому говорю, на стол руки! Ты что там пес прячешь! – Михаил перегнувшись через стол, рванул борт стариковского полукафтанья.
На столешницу, возле сумы лег, поблескивая вороненой сталью, наган. Старик Бородин пытался что-то сказать, но спазм перехватил его горло, старикашка только паралитически задергал ручонками, его лицо побурело, глаза повылазили из орбит.
– Ну, ты и скоморох, Кузьма Мтихеич! Не устраивай цирка, я тебя как облупленного знаю! Ты думал меня, меня подполковника Облова так дешево взять? Ну, скажем, ладно, запродать, куда еще ни шло, но вот взять меня на мушку?! Ты, видно, охренел совсем? И ты мог бы в меня стрельнуть, а Кузьма?! – Облов деланно засмеялся, затем, повернувшись к Филату, произнес презрительно. – А ты, паря, почто сидишь, вынимай свою пистолю. Ну?!
Филат безоговорочно выложил свой наган, положил и по-собачьи преданно уставился на Облова.
Ну, что мне с вами делать-то прикажите, гавнюки вы такие? В расход нешто пустить? – и завел руку под френч.
Отец и сын разом бухнулись на колени, сложив молитвенно руки, возопили плаксивыми голосами:
– Не погуби Михаил Петрович, пощади нас Христа ради! – Филат тот зарыдал по-бабьи, старик-отец взялся слезливо оправдываться:
– Михайла Петрович прости ты меня дурака старого. Все жадность окаянная?! Да и не хочу я вовсе твоей погибели. Это какая-то чертовщина, правду скажу – чертово наущение. Да, что же за напасть-то такая со мной приключилась?! Михайла Петрович, не погуби Христом молю, забери все мое добро, мигом распродам, забери на общее дело – только пощади, зачем тебе лишать нас жизней? Помилуй нас – век за тебя молиться станем. А то, хочешь Михайла Петрович, так выпори меня старого осла. Сам на лавку лягу, сам удары считать стану. Лупцуй сколь душе твоей угодно – только не убивай! Был, был грех, сознаю Михайла Петрович, бес попутал… Всю жизнь – деньги, одни деньги на уме, как тут уму за разум не зайти?! Но, как на духу говорю – не ведал сам, истинно не ведал, что творил. Прости, ты меня, ради родителя твоего, Петра Семеновича – благодетеля моего, прости! – Разгоряченный дедок бросился к ногам Облова, и, что уж вообще было дико, шустро облобызал его сапоги.
Сама эта театральная сцена мало тронула зачерствевшую душу Облова. Он прекрасно понимал – старик готов жрать дерьмо, лишь бы остаться целым, не жалко и Филата, через таких вот остолопов Россия пошла по ветру, через таких вот слизняков сломалась жизнь самого Облова. Но не в самом же деле порешить этих ничтожных людишек, марать о них руки – было бы неуважением к самому себе. Не палач же он в самом-то деле, да и казну оставить не на кого?! Этот довод оказался решающим.
– Ладно, Кузьма – я извиняю тебя, встань с пола, успокойся.
Кузьма Михеевич всхлипывая, словно выпоротая девка, поднялся на ноги, утирая рукавом обильные слезы, он лепетал слова благодарности и признания. Велел также и Филату приложиться к ручке благодетеля. Облов, негодующе отдернув кисть от слюнявых губ малого, прикрикнул на суетившихся Бородиных: «Совсем сдурели олухи царя небесного?!». Приказал им успокоиться и внимательно выслушать его. Отец с сыном с радостью подчинились.
– Хорошо, Михеич, кто старое помянет – тому глаз вон! Понимаю и прощаю твое заблуждение, Бог милосерд. Все остается по-прежнему. Ты, как зеницу ока, до первого моего требования хранишь казну. Приду – или я, или кто-то из моих ребят. Вот тебе пароль…
Облов сунул руку в саквояж, поворошив там вслепую, выхватил новенький червонец. Небрежно наискось разорвал его на две половинки, один клок протянул старику, другой спрятал в накладной карман френча. Бородин, понимающе склонил голову, не требуя дополнительных пояснений, должно этот прием давно использовался промеж них. Затем, Облов, секунду подумав, высыпал содержимое сумы на столешницу. Отодвигая бумажные купюры и монеты в сторону, он стал выискивать драгоценные вещи. Первым делом отыскал панагию, любуясь, с минуту разглядывал это чудо ювелирного искусства, даже восторженно покачал головой, причмокнув языком. Потом стал быстро откладывать перстни, серьги, броши с камнями-самоцветами. Особо ценных вещиц оказалось не так уж много, но все же они составили вполне увесистую кучку. Облов пересыпал их в кисет, помедлив, положил туда же и панагию.
– Так вот, Кузьма Михеевич, камушки-то я заберу, – хотел, было добавить, – все надежней будет, – но сдержался. – На них там, куда еду много охотников найдется, для дела оно сподручней. – Посмотрев внимательно на Филата, добавил. – Парень твой пойдет со мной, проводит сколько нужно. Ты, дед, не переживай за него, принуждать к уголовщине не стану, просто нужен верный человек. Мне на станции светиться никак нельзя, – и уже совсем миролюбиво закончил. – Вели собирать на стол, да поскорее, засиживаться больше некуда…
Старая Улита и молодая Пелагея быстро сварганили завтрак. Облов старался не смотреть на Пелагею, но помимо его воли, взоры их то и дело перекрещивались. Михаил улавливал признательные флюиды девушки, ответить ей тем же по понятной причине он не мог, стараясь укрыть от прозорливого старика тайну, что связывала их. Девушка-доносчица осознавала, что Облов пощадил ее близких, и возможно, строила наивные девичьи предположения, отыскивая причину подобной сентиментальности беспощадного Облова. Ну, и пусть с ней – теперь гадает…
Уже окончательно собравшись в дорогу, покидая дом Бородиных, Михаил задержал свой взгляд на девушке, улыбнулся ей краешком губ и слегка кивнул головой, мол, не вешай девка носа, все образуется. Она, покраснев, тоже незаметно кивнула ему, в ее васильковые глаза накатили слезинки, в невинных очах Пелагеи застыл немой вопрос: «Ждать ли мне тебя? Вернешься ли ты мой любимый?». Облов, широко перекрестившись, ступил за порог…
Уже во дворе старик Бородин, было, засобирался проводить Облова, но тот остановил деда, прервав последние излияния Михеича в преданности. Оборвал почти грубо, мол, сиди седой хрен на печи, надоел и так…
Всю дорогу до станции Филат шел след в след Облову. Парень, понимая свою задачу, не обращал на себя внимания, лишь изредка односложно отвечал на скупые вопросы атамана. Малый, конечно, переживал историю, в которую втравил его родной отец, и по-своему оставался, благодарен Облову, что не взял грех на душу. Ну, а то, что их малость постращали, так сами виноваты?! Купив билеты на проходящий литер, он еще долго хвостом таскался за Обловым по всяким закоулкам, пока не было сказано возвращаться домой.
Главка 6
Прошли сутки с лишком. Михаил Петрович Облов, одетый в цивильное суконное пальто с каракулевым воротником, в такой же каракулевой шапке пирожком, устроился на отполированной бесчисленными задами скамье бревенчатого вокзала станции Ливны. У его ног стоял аккуратный черный саквояж, наподобие тех, с которыми и по сей день ходят по вызовам бывшие земские доктора. На коленях же Михаила лежал крохотный узелок, увязанный в белый носовой платок. По своему обличью Облов походил на учителя гимназии или новоявленного мануфактурщика средней руки. Михаил Петрович ждал вечернего поезда на Харьков, поэтому сидел смирно, тихонечко, предупредительно поджимал ноги, когда кто-то проходил по междурядью.
Он уже пригрелся в битком набитом зале ожидания, и с лукавой ленцой наблюдал непритязательные вокзальные сценки. То, укутанная в жесткие дерюги, баба ругается с подвыпившим расхристанным мужиком. То накрашенная кокотка с лакированным ридикюлем, явно из бывших, презрительно воротит носик от кислой овчины, грузно усевшегося рядом мешочника. То пробежит, задирая окружающих, пестро выряженная кодла беспризорников. То слепой кротко простучит своим бадиком, или нищенка заунывно затянет Лазаря. И все куда-то едут, едут, едут…
Устав быть зрителем бесплатного театра, Облов отрешенно задумался о недавнем и наболевшем. В голову лезли сумбурные воспоминания, хаотичные мысли перескакивали с пятое на десятое. Вдруг, он ощутил чей-то пристальный взгляд. Не выдержав его упорной настойчивости, Михаил поднял голову, разыскивая любопытного наглеца. В начале прохода меж рядами скамей стояла пигалица-девочка лет пяти, в облезлом, не по размеру долгополом пальтеце, по груди крест-накрест перевязанная грубым шерстяным платом. Такой плотный коричневый платок-плед, причем неизменно колючий, был и у его няни, как бы, между прочим, отметил Михаил. Сцепив маленькие розовые пальчики внизу живота, кроха заворожено уставилась на Облова. Почему-то смутившись, Михаил улыбнулся ей, даже приветливо сморщил нос. Однако завязать разговор с ребенком, стоящим в отдалении он не мог, да и не умел по жизни подлаживаться под детскую непосредственность. Девочка оглянулась, верно, отыскивая в толпе свою мать и не найдя, уж совсем близко подошла к Облову. Михаил нерешительно ждал, что же будет происходить дальше. Совсем осмелев, девчушка ткнулась грудкой в его колени и тихо-тихо прощебетала:
– Дядечка, я кушать хочу?!
Облов смутился от такого напора, но быстро справился с замешательством:
– Сейчас, деточка, сейчас. А, ну-ка поглядим, что у нас в узелочке-то лежит, – и он развязал свою укладку. Там были плотно спрессованные бутерброды с домашним салом.
Михаил протянул бутерброд ребенку, девочка жадно впилась в ломоть махонькими, беленькими зубками. Михаил же, сам не зная почему, отважился взять девочку на колени, и стал умиленно наблюдать, как она за обе щеки уплетает его, заготовленный впрок, ужин.
И все бы хорошо, но его насторожил внезапно, неизвестно откуда взявшийся красноармейский патруль. Проходя мимо рядов, один из патрульных, пожилой вислоусый солдат, смерил Облова долгим, изучающим взглядом. Михаилу стало не по себе, он отвернулся. Сдерживая волнение, он участливо спросил у девчушки – где ее мамка. Та смешно с картавинкой пролепетала: «Мамоцка в оцеледи за билетами». Облов оглянулся на патрульных, уже вся троица упорно разглядывала его. И тут Михаил узнал в «вислоусом» – встречавшегося на его пути чекиста из Козлова.
– Погорел, как швед под Полтавой, – сработал неподводивший инстинкт, – нужно немедля уходить.
Облов поспешно встал, приткнул малышку на свое место, сунул ей узелок с бутербродами, сказал скороговоркой:
– Девочка, будь умницей, не ешь все, отдай мамочке, она тоже кушать хочет, – схватил саквояж и направился к проходу.
Тут, один из красноармейцев закричал:
– Гражданин, а гражданин?! Эй ты, шляпа-пирожок, обожди малость – дело есть до тебя!
Облов шел не оглядываясь, словно и не ему шумели.
– Ты, мудак в пальто! Тебе говорят, постой!
Облов не выдержал и побежал к выходу из вокала, помчался расталкивая незадачливых пассажиров, перепрыгивая через распростертые в проходах тела, порой наступал на них, вдавливая кованные каблуки в податливую плоть.
Вслед ему неслось:
Стой контра! Стой тебе говорят! Стой, стрелять будем!
Михаил знал, что на вокзале, прилюдно – стрелять не отважатся, уж слишком велик риск зацепить вовсе непричастных лиц. И тут, наметанным боковым зрением он усек, что наперерез ему метнулось двое парней в опоясанных портупеей ватниках.
Ну, подыхать…, так с музыкой! – взыграла в нем лихая натура.
Облов, на ходу рванул ворот пальто, выхватил наган и, не целясь, всадил пулю в ближнего из парней. Тот споткнулся, широко раскидывая руки. Облов выстрелил в другого, выскочил на перрон, метнулся к стоящим на станции товарным вагонам, лихо впрыгнул на тормозную площадку. Вслед ему раздались одиночные винтовочные выстрелы. Он уже успел заметить, как с двух сторон перрона бежали вооруженные люди. Отстреливаясь, подлезая под вагонами, Облов даже не заметил как посеял свой рундук. Михаил гнал, что есть мочи, но и преследователи не отставали. Беглец стрелял, стрелял…. Пули закончились. Он перемахнул через станционный заборчик, вбежал в узкий, заваленный шпалами складской переулок, огляделся – кажется ушел.
Но, тут опять раздались хлесткие выстрелы. Облову ничего не осталось, как броситься напропалую вперед. Бежал он нескончаемо долго, вконец запыхавшись, он остановился на берегу реки. «Кажется, ее зовут Сосна», – мелькнуло в памяти Михаила, он прислушался – тихо. Осторожно перешел шаткие мостки, вглядываясь во внезапно подступившую темноту, вышел на тропку и пошел напрямик.
Так он брел часа два. Полностью обессилев, присел на смерзшуюся кочку, сидел, ни о чём не думая, только дышал, широко, жадно глотал морозный воздух.
Вдруг, ночную тьму прорезал леденящий душу вой. Его звук нарастал, заполняя собой все пространство округ, заставлял вибрировать воздух. Во всем мире остался только этот ужасный, первобытный вой.
Волки?! – Ожгла, блеснувшая молнией, догадка. – Волки!
Облов выхватил наган из кармана, бешено закрутил барабан.
– Так и есть, ни одного патрона?! Даже себе!? Все расстрелял….
Он медленно поднялся на ватных ногах, вгляделся в кромешную темень…
Протяжный, волчий вой неукротимо приближался. Вот он пресекся, озарив надеждой, но ненадолго. И вновь заколодил все вокруг, леденя кровь, с неимоверной, неодолимо мощной силой. Облов вонзил глаза в черный зенит, – ни луны, ни звезд…
– Как же так?!
Сырой ветер дряблыми пальцами ударял по щекам, кудлатил виски, стискивал ноздри избытком колкой свежести, щипал за уши. Облов, как-то отрешенно, взглядом со стороны, очнулся от ужаса, пропитавшего ум и душу. Естество живого человека упрямо отторгало мысль о жутком конце. Михаил неожиданно застиг свой мозг негодующим на пронзительную изморось, Облов опять отстраненно воспринял коробящее раздражение своей плоти на эту осеннюю хлябь, на не уют природы.
– Господи?! О чем я?! Какая ерунда…
Тянущий жилы, вой волков лишь на мгновенье вынудил его встрепенуться. Разум вовсе не хотел воспринимать сам факт о близящейся развязке, в голове опять вертелись соображения в другом, ином от ужаса измерении. Забубенно пульсировала мысль о потерянном саквояже, было жалко сухих шерстяных носков, чистой пары белья и прочей дешевой мелочи.
– Боже?! О чем все я? Неужто я такой олух царя небесного? Да, и при чем тут олух или не олух? Все, мне крышка! – Он насильно пытался внедрить в себя признание этого факта, но его натура подсознательно противилась, не поддавалась, сомневалась, на что-то еще надеялась. – Неужели кончено? Не может быть, еще не все…. Нужно, что-то предпринять, что-то срочно придумать, существенное, кардинально меняющее ситуацию. Как поступить?!
Он торопливо стал озираться вокруг. Реальной, вещественной надежды на спасенье абсолютно ни просматривалось. Но все же, внутри его самой потаенной, сокровенной сущности мелко вибрировал росточек жизни – пронесет, пронесет, обязательно пронесет…
Темень поглотила окрестный мир. Куда идти, куда бежать? Хоть бы стог или дерево какое, ну хотя бы коряга, дреколье какое-нибудь? Крутом голая смерзшаяся земля, стерня и кочки. Даже обломка кирпича, камушка нет, ни то, что увесистого булыжника, ничего могущего защитить нет под ногами – чем обороняться, ни голыми же руками?!
Но потаенная надежда на «пронесет» не покидала его. Наоборот, тоненькой, тонюсенькой, но все же струйкой прибывало чувство уверенности в себе. Весь смысл бытия как бы напрягся на предчувствии удачи, и состояние это ширилось, набирало силу, понуждало, требовало активного действия.
Михаил решил затаиться, возможно, волки пройдут мимо. Как знать, донес ли порывистый ветер запах человечьей плоти до их кровожадного обоняния? Как знать, что у хищников на уме? Ведь не всегда волки одолены неукротимой похотью сожрать кого-либо, определенно, и у них есть иные, не понятные человеку, потребности, а может статься, даже некие задачи, отличные от прозаического прокорма?
Ну, а уж если нет?! Тогда остается последний шанс – превратиться самому в дикого зверя, затаившегося среди опустелых полей! Самому, первому броситься на волков, разъяренно наброситься, издавая хищный первобытный рык, низвергнуться плотоядно, изображая крайнюю, необузданную степень кровожадности. Самому стать хищным монстром, именно стать, до дрожи в пальцах возжаждать крови. И тогда, о Боже, сделай именно так, быть может, волки дрогнут, побегут, нарвавшись на засаду более матерого зверя. Отступят, ведь есть же и у них хоть кроха здравомыслия, хоть малость рассудка. Ибо он, Михаил Облов не отдаст свою жизнь без боя, не отдаст каким-то большелобым псам серой масти самое ценное, что у него есть – жизнь свою. Он будет рвать волкам пасть, будет ломать им лапы, будет кусать их, колоть им глаза стволом револьвера. Он не отдастся им просто так, за здорово живешь…, не отдаст самого себя, свое единственное Я!
Главное не дрогнуть! Необходимо забыть в себе человека, нужно стать зверем, решительным, сильным, упорным, осатанелым и злым, злым, злым!
Волки взвыли с потусторонней, замогильной прелестью. Они скулили, оплакивая свой извечно гонимый род, они пытались протяжным воем сгладить голодную тоску, старались изгнать свой извечный страх и ужас перед неумолимой волчьей судьбой. Своим воющим пением они заклинали ее, упрашивали о снисхождении, молили об удаче…
Он подобно зверю поджался и стал на четвереньки…
И грянул выстрел!!! Воскреющая молния и гром среди черной, промозгло-осенней ночи. Грохнул выстрел, затем второй… Облов различил его вспышку, – огненный глаз, взгляд Бога во тьме! Это судьба! Теперь, точно спасен! Теперь буду жить!
Ликующе возопив: «Ого-го-го!», Михаил пустился бежать в сторону выстрелов. Он, конечно, понял, что стреляли из охотничьего ружья, но если бы пальнули и, из трехлинейки или маузера, он все равно бросился бы навстречу спасительным залпам. Одно дело, загнуться с отбитыми почками в каземате ГПУ, совсем другое – оказаться растерзанным в клочья волками, живьем быть сожранным ими. Он мчал не разбирая дороги, он падал на грудь, тут же вскакивал, совсем не осязая боли на расцарапанном стерней лице, ладонях. Опять неистово гнал и этот бег не был ему в тягость, он почти не ощущал своих ног. Они несли его сами! То был бег воскресшего к жизни человека, вольный полет не сгинувшей, не пропавшей души.
Но вот, его глаза явственно различили контуры лошади, телеги, стоящего в ней во весь рост человека. «Эге-гей!» – закричал Облов, возбужденно потрясая руками. Расстояние между ним и возницей скачкообразно сокращалось. Наконец, человек в телеге, должно расслышав вопли страдальца, медленно повернулся к нему. Но отнюдь не бросился к Михаилу с братскими объятьями, а наоборот, перезарядив ружье, направил его ствол на Облова, скомандовал по-военному: «Стой, стрелять буду!».
Михаил недоуменно опешил, по инерции сделал еще несколько шагов и опустил руки. Возница был неумолим, подтверждая серьезность своих намерений, он одним щелчком взвел курки, Михаил замер. Он не мог говорить, он тяжело и судорожно дышал, враз вся усталость и перенесенное напряжение навалились на него, подкосили ноги. Облов опустился на закорки, а потом попросту плюхнулся задом оземь. Мужик пристально вгляделся в незнакомца городской наружности, поведя стволом ружья, повелительно спросил Облова:
– Ты, кто таков?! Почто ночью по степу шастаешь? Чего орешь, как оглашенный, ажник лошадь мою напугал? Отвечай, не медли. Если лихой человек – иди своей дорогой, не то, – возница убедительно встряхнул увесистой «тулкой» и продолжил уверенно. – Ты не думай, там себе, – не на дурака напал? Чего уселся то? Ты, знаешь, ты там дюже не хитри. Чего молчишь? Али беглый какой, тогда нам с тобой не по пути? Ну, молчи коли так…. А я поехал, – мужик перехватил свободной рукой вожжи, заученно щелкнул ими, для виду, будто огрел коняку. – Но-но! Пошла дура, пошла!
Облов очнулся, превознемогая налетевшую слабость, тяжело оторвался от земли, покорно махнул мужику обеими руками, торопливо заговорил против ветра, глотая его хлесткие порывы:
– Погоди, постой хозяин, не тать я ночной. Меня, братец, понимаешь, чуть волки не стрескали, – иронично усмехнулся своим словам. – Заплутал я малость, не туда зашел…. А тебе огромное спасибо. Спугнул ты волков своей стрельбой, а то бы мне пришла хана!
Возчик придержал коняку, и уже приветливей обратился к Облову:
– Так бы и говорил сразу, а то бежит, махает руками, поди, разбери, что у каждого на уме. А потом вообще сел…. Я уж грешным делом подумал, не полоумный ли какой сбежал из дурдома? – и переменив тон на ласковый спросил дальше, – Как же это тебя мил человек угораздило-то? А волков у нас, правда, развелось, видимо, не видимо. Ажник приходят стаями, стоят на околице, им, видать, голодно. Ну уж, коли такое дело, не дадим пропасть христианской душе. Садись милок в телегу, иди суды…
– Спасибо хозяин, – и Облов отвесил низкий. поклон, – выручил ты меня!
Облову стало нехорошо. На душе гадко заскребли кошки. Он силился втолковать себе, ничтожность повода, из-за которого распустил нюни, будто девчонка курсистка, расслюнявился с полпинка, но ничего не мог поделать с собой. На него накатило чувство, казалось незнакомое ему, чем-то похожее на муки похмелья, чувство выбивающие почву из-под ног, впрочем, он уже знал – то есть не что иное, как давно позабытое им состояние срама. Да, когда-то его изводил неприкаянный стыд, не понаслышке гнобила немочь, саднящую душу. Он мучился и болезненно переживал, поэтому, всегда прежде старался, во что бы то ни стало предвосхитить, избежать поступка достойного позора, даже гнал порочащие мысли, лишь бы не жег запоздалый стыд. Да-да, именно стыдливые муки совести, которые он почему-то утратил, потерял впопыхах, теперь овладели им. Было время, он не нуждался в том нравственном камертоне, он намеренно по дурости выбросил его. Но разве можно уйти от самого себя, даже изгваздавшись в грязи, все равно в тебе останется невластная тебя частица горнего мира, которая коль нужно вырастет до вселенских размеров – останется именно она – душа. И она скорбит, и она ноет, болит, страждет твоего очищения.
Ой, нехорошо, ой лихо! Душа саднила, горела! Облов совестился самого себя, стеснялся своей необузданности, своей жестокости, своей черствости к людям. Походя, сраженная лошадка немым укором стояла перед глазами, а сердце колола теперь совсем ранящая мысль: «Сколько их – невинно убиенных, – людей, не лошадей, не скотов, а людей – подобия Божьего?!» Его мозг уже не вмещал содеянного, в голове мутилось, нельзя полностью отдаться подобным мыслям, непременно тронешься умом. Невыносимое состояние?! Об этом, просто, нельзя думать, «там львы».