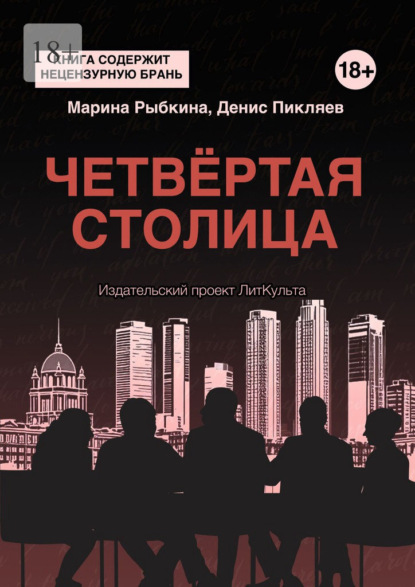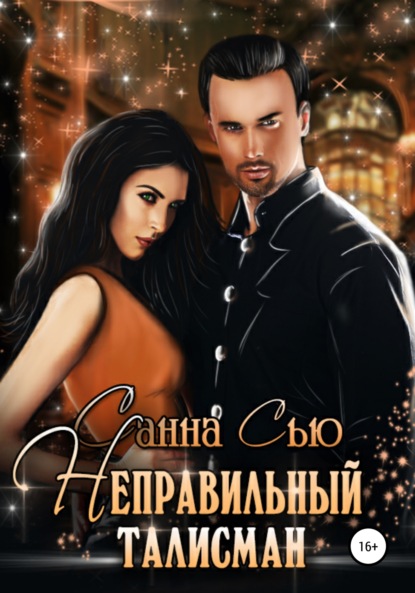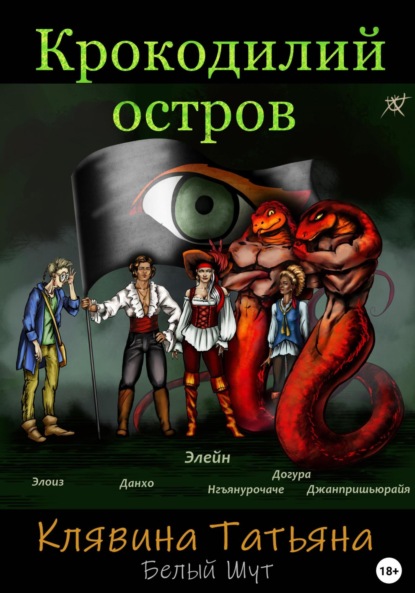- -
- 100%
- +

Дизайнер обложки Яна Малыкина
© Марина Рыбкина, 2025
© Денис Пикляев, 2025
© Яна Малыкина, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0068-5544-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Авторы благодарят
Яну и Эдуарда Малыкиных, без помощи которых публикация повести была бы просто невозможна;
пристрастных и остроглазых редакторов текста, прежде всего замечательного мастера слова Ерофееву Ольгу;
весь портал ЛитКульт, от редакции до всех участников проекта, особенно Вадю Голимого и Дарью Хохлову – за неоценимый вклад в создание повести;
недоброжелателей, подаривших сюжету остроту и типажи;
нетерпеливых читателей, тормошивших нас: «а дальше?», «когда следующая глава?», «где продолжение?»;
и всех, кто найдет пару вечеров, чтобы дойти с героями до финала.
ЧАСТЬ I. ЛИТО
Глава 1. ХМУРОЕ УТРО
Утра Несветаева не любила. Заснуть ей удавалось только после четырёх, и вся эта бодряческая музыка: лязг трамваев и визг тормозов под окнами, низвергающиеся с рокотом ниагары в соседских клозетах, хлопанье дверьми, окрики из окон вслед что-то забывшим растяпам, гавкотня выгуливаемых собак и раздружившихся соседок – её бесила.
Сегодня ей надо было в ЖЭК. Читать Бодлера согнанным домовым активом пенсионеркам:
«…Всё празднества греха, от преступлений сладких
До ласк, убийственных, как яд,
Всё то, за чем в ночи, таясь в портьерных складках,
С восторгом демоны следят».
Как они возмущённо станут хлопать откидными сиденьями вытащенных из жэковской каптерки советских стульев! Два задрота на исходе мучительного пубертата, затащенные в красный уголок своими бабками, желающими «приобщить внуков к культуре». Одна средних лет сотрудница, пожертвовавшая обеденным перерывом.
«Съедать по сердцу в день – таков девиз твой гнусный.
Зазывные глаза горят, как бар ночной,
Как факелы в руках у черни площадной», – и вдруг Несветаева срывающимся голосом примется рассказывать им вдогонку, этой черни площадной, которой она, в общем, сочувствовала, жалея за убожество. Сообщит этим пасынкам птиц о том, что всю свою сорока-с-чем-то-летнюю жизнь Шарль рвался служить высокому, мучительно искал идеал, раздваивался между ужасом перед жизнью и восторгом от неё же… Несветаева заплакала.
Она старела, да. Её ледяной панцирь, её броня всё чаще таяла и сочилась. Несветаева ненавидела себя в такие минуты. Она не терпела слякоти ни в других, ни в себе.
Девочки не плачут. Вот.
На девочку Несветаева не тянула уже давно, лет тридцать пять, а то и больше. Объёмистая, как том Толстого, скучная, как многостраничные описания рязанских пейзажей, неухоженная, как заброшенная усадьба разорившихся помещиков, с вороньим гнездом на голове и обломком расчёски в потёртых глубинах большой сумки, в которой с незапамятных времён лежали: высохшая губнушка, клетчатый носовой платок, так и не побывавший в деле дежурный презерватив с истёртыми буковками на конвертике и прямошлицевая отвёртка – подтягивать сломанные бегунки на молниях.
В этом городишке не было ни одного человека, кто помнил бы Несветаеву молодой и красивой.
Тело её влачило сиротскую долю. «Как же ты смеешь жить? – Словно говорило оно своей хозяйке. – После того, как он…»
Она никогда не разрешала себе договорить эту фразу.
Несветаева похрустела суставами артритных пальцев, резко села в кровати – так, что в глазах начался снегопад. Сунула узкие ступни в войлочные тапки и поплыла в маленькую кухоньку поставить джезву на плиту. Зажгла газ и нырнула в ванную.
Как не хочется в ЖЭК! Но Конотоп с таким трудом устраивал ей эти копеечные подработки!
– Лиза, умоляю, ты же знаешь, как рвалась туда Алёна Гомеровна, у неё и диплом позволяет; я еле отговорил управдомшу от Гомеровны, сказал, она своей монотонностью мух на лету усыпляет, – молитвенно воздевал руки и закатывал возмутительно, не по его летам, синие глаза Зигфрид (откуда он взялся в её жизни, Несветаева уже не помнила, но ценила, что можно иногда прислониться к чьему-нибудь плечу, более широкому даже, чем у неё). – Ну будь ты человеком, сходи! Хоть колготки себе купишь!
Несветаева, вспомнив их последний разговор, потянулась к верёвке. Пощупала следки – нет, не досохли. Змея полотенцесушителя оставалась холодной с начала сезона. Надо будет заодно поскандалить в ЖЭКе, решила Несветаева. Но вначале она распишется в выплатной ведомости.
Вздохнув, Несветаева напялила брюки. Она не любила одежду на поясе, когда пуговица вдавливается в пупок.
Выбрала свитер подлиннее, чтобы прикрыть, как любят обозначать в женских журналах, «зыбкое место» (Несветаеву забавлял этот гламурный эвфемизм, она обычно выражалась прямо, называя любые, самые необсуждаемые в обществе вещи своими именами).
В крайнем случае, это можно назвать всем понятным словом «дырка».
Распечатанное на принтере фото на стене змеилось ухмылочкой, как те, из портьерных складок. И всё же лицо на портрете было добрее, чем зеркало.
На груди не застегнулось – не сошлось из-за свитера. На тонкую бы блузку! Несветаева заправила под пальто конец шарфа – так не продует.
Наконец, сборы были закончены. Несветаева вышла с запасом времени, что-нибудь закинуть в кишку, чтобы не урчала во время лекции. Через улицу стояла вареничная.
Несветаева подёргала ручку – дверь не поддалась.
– Ладно, часик вытерплю, – решила так и не позавтракавшая лекторша и двинулась к облезлой сталинке, в цоколе которой размещалась кормившая её иногда жилищная контора.
В ЖЭКе она столкнулась с Гомеровной.
Свежее каре, седина закрашена, маникюр – от Алёны несло парикмахерской. Одета тщательно – учительская привычка быть образцом.
– Василькова, – окликнула она Несветаеву по печатному псевдониму. В лито к Несветаевой обращались исключительно так. Разве что за вычетом Конотопа, да он и имя её знал – необъяснимая посторонним степень близости.
– Василькова, кому подлизываешь лекции у меня уводить? Ты ж даже не филолог, уж не говорю поэт.
Алёна Гомеровна была обладательницей диплома пединститута и каких-то курсов повышения квалификации, а также входила в методобъединение русистов при гороно. Иногда ей удавались стихи, но читатель явственно ощущал пот, который излила прилежная авторша при их создании, перелопатив уйму литературы и усеяв текст надо и не надо именами собственными, историческими датами, названиями марок одежды и напитков, которые на слуху, названиями модных курортов и нашумевших спектаклей, обрывками узнаваемых либо неузнаваемых чужих стихов – короче, всем, что должно было выказать недюжинную эрудицию Гомеровны.
Тут Несветаевой крыть было нечем – с её в простенькой одежонке стихотворениями, единственным источником которых была мучившая её уже много лет бессонница.
Три академические справки из разных вузов, включая – в этом месте не смеяться, авторам и так больно! – политех, промышленное и гражданское строительство, да любовь к библиотечным залам – вот и весь несветаевский образовательный багаж.
– Алёна, и тебе здравствуй, – коротко ответила она и боком протиснула свои обильные плечи в дверь красного уголка.
Гомеровна была ещё ничего. Не такая ядовитая (остроты ей, что ли, не хватало?), как Тамерлан Топорищев. Тот, вроде, и похвалит иногда – но так, что весь день во рту металлический привкус. Тамерлан вёл род от самого. Того, в честь которого был назван. Ну так он говорил, а оспаривать никто не решался.
Ещё он гордился знакомством с режиссёром Йозелиани и тем, что пил чай с Липочкой Бриг на исходе её долгой и насыщенной жизни. У Тамерлана даже случилась публикация в настоящем толстом журнале в незапамятные времена, когда напечататься ещё чего-то стоило, но платить было не надо.
«В целом стих написан неплохо – начинал Тамерлан. – Понимаете, но он калька со стихов… (здесь перечислялись фамилии вошедших в хрестоматии поэтов второго эшелона) и прочих. Стоны. Мы на этом празднике чужие… звон гитарный…
Будь эти стихи написаны в 20-е годы прошлого века, еще ничего – да и то, как писал Есенин о Клюеве (несправедливо) «и в клетке сдохла канарейка».
Чтобы критика была продуктивной, я тоже не хочу здесь всё перечёркивать, ничего не предлагая, но что предложить-то?
Переписать всё? Наверное, да», – отправлял гордый потомок очередной несветаевский текст в урну с прахом прочих юных и не очень дарований.
Несветаева никогда ничего не переписывала. Как ничего не «улучшала» в своём облике, чтобы кому-то понравиться.
Я звучу, как гармонь-двухрядка:
Обнимай меня, разжимай меня —
Всё равно пою одинаково.
На ноте упадка.
Как пластинка на патефоне —
Застревая всё в той же трещинке.
Поскрипит, постонет, утонет —
Заезженная.
Или шестистрункой подъездной,
Подбирает мальчишка гордо
К незамысловатой песенке
Три аккорда.
…
Я б хотела виолончелью
Под смычком самого Бога.
Только голоса нет. Ну чем мне?
Убого, – смиренно отвечала она на критику.
Погружённая в не самые приятные мысли, Несветаева вывела для себя, что думать на полный желудок не столь тягостно и вновь отправилась в вареничную.
Глава 2. НЕ ЧЕХОВ
Гудрон Карлович Чеков ворвался в литературную жизнь Рунета около двух лет назад, выйдя в отставку. Он считал себя писателем если не выдающимся, то вполне талантливым и уж точно плодовитым.
Плодоносил Чеков регулярно.
И орошал водопадом своего прозаического гения все отыскавшиеся в браузере литературные порталы.
На литресурсах Гудрона Карловича встречали не только с пониманием, но и с исключительным пиететом, выраженным в сухом, как надтреснутый кашель, молчании – ни одного комментария, хотя бы и злобного.
«Знают, с… ки!» – злорадно отмечал про себя Чеков.
В очередной раз совершая обход интернет-изданий, посвящённых словесности, Гудрон Карлович, к неудовольствию своему, обнаружил, что редактор какого-то мелкого портала (кажется, «КУЛЬТ Я») обратил на его величавую персону особое внимание и задал Чекову неуместный вопрос о его дописательском прошлом.
Гудрон Карлович со свойственной ему фанаберией ответил. Редактор не остался в долгу. Затем к беседе подключился ещё один функционер. Дискуссия перешла в пикировку. Посетители давно дремавшего портала обратили внимание на внезапную активность и стремительно удлинявшуюся ленту каментов. Лёгкая пикировка переросла в обмен крайними нелюбезностями. Гудрон Карлович попытался гордо уйти, громко хлопнув дверью. Дверь не желала закрываться и пребольно саданула Чекова по филейной части.
На следующий день писатель готовился к предстоящей битве, пил коньяк из толстостенного стакана и собирался с мыслями. Мысли разбегались и, испуганные предстоящей работёнкой, прятались в потаённых уголках вскипавшего разума.
Вечернее посещение портала не принесло облегчения. Гудрона Карловича редгруппа «культи» (как переименовал её разобиженный Чеков) упорно называла графоманом, Чекову хамски предлагали оставить писательскую стезю и больше читать, в особенности классиков. Читать Чеков не любил, справедливо полагая, что настоящему таланту не стоит терять попусту время на мысли уже давно почивших в бозе людей.
Так прошёл ещё один день, за ним другой.
Битвы с нежелающим признавать своё интеллектуальное поражение противником захватили всё свободное время Гудрона Карловича. Чеков поднаторел в колких замечаниях и укрепил броню собственной твердолобости до предела.
Дни сменялись неделями. Недели – месяцами.
Как-то Гудрон Карлович, сидя за кухонным столом и поглощая питательный завтрак, обнаружил, что стол шатается. Под ножку для устойчивости конструкции когда-то была подложена книга, но от времени и тяжести обильно накрываемого стола просела. Чеков наклонился и сцапал фолиант. Оглядел. На обложке красовалось: «А. П. Чехов». Гудрон Карлович хмыкнул и…
Очнулся только, когда прочитал напечатанное от корки до концевого титула. И даже выбитую надпись «46 копеек» на задней крышке переплёта.
«Всякого только что родившегося младенца следует старательно омыть и, давши ему отдохнуть от первых впечатлений, сильно высечь со словами: «Не пиши! Не пиши! Не будь писателем!»
А. П. Чехов. – в голове Чекова высвечивалось, наподобие лампочек на старых вывесках, только что прочитанное.
Руки тряслись, горло душили ужасные предчувствия, как будто где-то вдалеке умирал кто-то близкий.
Кинулся к компьютеру и углубился в собственные тексты.
Ему стало горько. Стыдно. Зябко.
Гудрон Карлович решительно втопил палец в кнопку DELETE, с безраличием демиурга (враньё) наблюдая, как пустота экрана безвозвратно поглощает созданные им за многие годы густонаселённые миры.
Отвалившись от компьютера уже за полночь, Чеков вмазал прямо из горла положенную награду, активно заработав кадыком. Вытер влажные губы тыльной стороной ладони, удовлетворённо крякнул – Чеков привык писать речевыми оборотами, усвоенными из вороха прочитанного в школьном детстве, проще говоря – штампами.
Авторы поразмыслили и тоже позволили себе. Не в смысле «заработать кадыком и удовлетворённо крякнуть», а так – пошалить с речевой характеристикой героя.
Казнь состоялась – Чеков всё-таки смог убить в себе писателя.
Гудрон Карлович улыбнулся и отправился на боковую, бережно лелея одну занимавшую его сознание идею.
Утро застало Чекова в ванной комнате улыбающимся и насвистывающим под нос какую-то простецкую и бравурную мелодию. Гудрон Карлович до синевы выскоблил туповатой безопаской свой тяжёлый подбородок сорокалетнего мужчины, притушил горящие щёки едким цветочным одеколоном, подаренным его супругой в незапамятные времена, и вышел в разнообразный шум улицы.
Сачканувшая в этом году от прямых обязанностей зима раздражала жителей захолустного городка с древним топонимом Верхнее Захолустье неустойчивой погодой. То по оголившимся тротуарам гнало сухую метель, больше состоявшую из пыли, нежели снега, то солнце вытапливало серую наледь, лизало грязную корку редких оседающих сугробов, грело заспанные лица обывателей (авторы ни в коем случае не вкладывают уничижительных коннотаций в это слово).
Гудрон Карлович погодой был доволен всякой и по-котовьи зажмурился и двинул до ближайшего проулка. Перешёл по облезлым широким полосам на другую сторону дороги и повлёкся куда-то, держа за ориентир крест с косым подножием на башне местного кремля.
«Куда-то» оказалось выщербленным одноэтажным зданием с облупленной вывеской «Вареничная».
Чеков, молодецки гикнув, дёрнул за латунную ручку-скобу и вошёл в тёмный зёв открывшегося проёма.
Глава 3. «ВАРЕНИШНАЯ»
Название «вареничная» Чеков упорно произносил через «ша» (получалось «варенишная»), ему казалось, что только так и нужно говорить про любимое его питейное заведение. Гудрон Карлович упорно обходил стороной новомодные бары и забегаловки с претенциозными названиями на крикливых вывесках – особливо набранными латиницей, мало уместной в городке, где единственными иностранцами были таджики, коловшие ломиками лёд у подъездов. Да и в «варенишную» он был не частый ходок, резонно полагая, что дома выпивать сподручнее. А в заведение заглядывал по большим праздникам.
Сегодня был именно такой день. Большой праздник для Чекова.
Гудрону Карловичу нравилось в «варенишной» буквально всё. И стены, местами утратившие цветную плитку облицовки, равно как ровесники этой общепитовской точки растеряли уже природные зубы, заменив их оплаченной собесом пластмассой. И вытянувшаяся в пол-окна в поисках солнца герань, и выцветшие от времени шторы в когда-то жизнерадостный горошек.
Чеков чувствовал расположение к посетителям заведения: простым работягам и многое повидавшим женщинам. Сюда не захаживали успешные и молодые. Здесь собирались после смены обычные жители Верхнего Захолустья в надежде порадовать себя гостовскими варениками и милой всякому, без этнических различий, желудку русской водочкой.
Чеков встал в хвост небольшой очереди и удивился, что «варенишная» (прежде она была рюмошной, и авторы, разделив верхне-захолустинскую трапезу с героями, позволят себе сбиваться с названия на название) пустовата против обыкновения. Очередь быстро иссякла, и перед Чековым уже маячила одинокая спина, судя по покрою пальто, некой дамы.
Дама была медлительной и неуклюжей (про таких в листовках Лизы Аллерт пишут: «дезориентирована») и умудрилась, чуть попятившись с подносом, наступить Чекову на ногу. Чеков взвыл и полирнул лучшим из своих ругательств. Тирада была столь замысловата, что оглянувшаяся на голос дама даже приоткрыла рот и начала что-то шептать себе под нос, как бы зазубривая услышанное, чтобы впоследствии применить его.
Чеков сосканировал одутловатое лицо с когда-то приятными, по всей видимости, чертами. Во взгляде незнакомки перемежались испуг и печаль, как будто прописавшиеся там давно. Выражение её глаз не было реакцией на брань, а, скорее, окончательным диагнозом окружающему миру. Чеков тотчас почувствовал себя крайне неуютно и продолжил, уже не используя непечатную лексику:
– Ну, это… вы поаккуратней там, ага.
Дама печально улыбнулась в ответ, произнесла опять же под нос какие-то извинения, продвинула свой поднос дальше по ленте раздачи.
Продавщица, баба Юля, слыла женщиной хоть и язвительной, но доброй. Когда у неё бывало хорошее настроение, она даже отпускала в долг. Правда, однократно, если кто-то тянул с отдачей. И память у бабы Юли была дай бог каждому. Она явно знала несуразную даму, коротко ей кивнула и назвала сумму заказа.
Гудрона Карловича обрадовал этот кивок: «Ага, свои, значит». Также Чеков отметил, что на подносе у отдавившей ему ногу посетительницы стоит ровно то же, чем и сам он собирался отобедать: вареников в суповой тарелке было доверху, а маленький графинчик с прозрачной жидкостью весело перемигивался с зайцами бликов на алюминиевой поверхности прилавка.
«Пшеничная» – не усомнился Чеков.
Печальная дама отошла и заняла круглую стойку недалеко от мутного окна. Чеков с минуту подумал, добавил к своему заказу стакан компота из сухофруктов, расплатился и почему-то отправился к столику, который уже занимала дама, хотя свободных в зальчике оставалось не меньше пяти.
Чеков посмотрел на печальную и примирительно предложил:
– Ну, это… Выпьем?
Печальная дама повеселела, даже улыбнулась. Улыбка, впрочем, тоже вышла с грустинкой и даже каким-то извиняющимся подтекстом. Кивнула, молча плеснула из своего графинчика Чекову и себе; не дожидаясь, пока Чеков возьмётся за стопку, чокнулась и запрокинув голову, в глоток осушила рюмку. Схватила освободившейся рукой вилку, неловко погоняла в миске ускользавшие вареники и, наконец, пригвоздила одну варенину ко дну тарелки, подняла на алюминиевой рогатине с погнутым зубцом и отправила в рот.
Далее внушительным указательным пальцем отёрла уголки рта и опять молча уставилась на Чекова.
Гудрон Карлович добродушно хмыкнул, сам подхватил стопку, так же ловко, как незнакомка, опорожнил ёмкость и, не закусив, представился.
– Гудрон Чеков, – произнес он по-военному отрывисто и чётко и вперил взгляд в даму, предполагая, что та вежливо назовется сама.
Дама опять смутилась и прошелестела:
– Рогнеда Василькова.
Чеков недоумённо посмотрел на сотрапезницу и засмеялся:
– Во тебя, мать, занесло! Разве так людей называют? Ро-гне-да-ва-силь-ко-ва, – по складам произнёс он, противно растягивая гласные.
– Ну да, Рогнеда Василькова, но это я для дела так, а по паспорту Несветаева, – попыталась оправдаться дама.
– Ну вот, фамилия как фамилия, это я понимаю. А звать как?
Василькова-Несветаева не поднимая глаз, отчего-то сбиваясь, произнесла:
– Л-л-л-иза.
– Ага, значит так, Несветаева Елизавета.
– За что предлагаете? – Несветаева-Василькова свернула тему и подвинула рюмку к Чекову. Тот плеснул.
– А на помин души. Убил я тут вчера одного, – протянул Чеков весело и вмазал.
– Человека убили?! – одновременно устрашаясь и сострадая, воскликнула Несветаева.
– Да если б человека! Писателя, – криво улыбнулся Гудрон Карлович и указательным пальцем пронзил воздух у себя над головой. – Разве ж писатели люди? Писатели – это писатели, а люди… – он развел руками, ища подходящую формулировку. – А люди – это люди. Не надо, понимаешь, путать.
– Но писатель тоже человек. С руками, с ногами… С сердцем, наконец, – неуверенно возразила Несветаева.
– Да нет, ты не поняла, – рассмеялся Чеков, – я в себе убил писателя. Понимаешь, вчера понял, что писатель из меня никудышный. Ферштейн?
– Понимаю.
– Ну вот. Вчера с этим покончил, а сегодня отмечаю.
– А вы…
– Не выкай мне, – поправил Чеков, – давай на ты, по-простому, по-нашему, без затей.
– Так сразу я не могу. Перейти «на ты» – это всё равно что в постель, это очень интимно. Позвольте уж мне следовать своей привычке, – Несветаева забеспокоилась, что прозвучало не особенно дружелюбно. Но не знала, как поправить впечатление.
– А с чего вы взяли-то, что вы писатель плохой? – помолчав, участливо спросила она. – Злые люди сказали?
– Да нет. Сам дошёл. Ты знаешь, писал ведь много лет, бывало, и хвалили. А тут перечитал – и вдруг как глаза открылись: такая помойка. Зачем эти буквы, зачем слова? Никого они не меняют. Ни читателя, ни того, кто пишет. Скотами и остаёмся.
Чеков, не спрашивая, уже из своего графинчика плеснул Несветаевой и себе, и, не чокаясь, будто и вправду на поминках, выпил.
– Ну, понимаешь, писателишки сейчас, ну, такие… – Чеков задумался.
– Какие такие?
– Да измельчали, что ли, не знаю. Я тут намедни Антон Палыча читал. Оптика и поменялась.
– Ну, это да… – поняла Несветаева. – Вы знаете, Чеков, а я ведь сродни вам, пишу, писательница и поэтесса.
– Настоящая? – крайне заинтересованный, Чеков сощурил свои серые глаза.
– Всамделишная, – подтвердила Лизавета и продолжила: – Чем дальше жить думаете?
– Эх, где наше не пропадало! – Перековеркал он поговорку. – Погоны-то я пару лет как снял. На завод пойду. В самый раз работа для нормального мужика. Не одрябнешь.
Несветаева присмотрелась к Гудрону Карловичу. Выглядел он крепким, был подтянут, спина прямая. Что там про погоны? Да, военная выправка видна. Но где служил, уточнять не стала.
«Этот как раз на заводе закрепится», – подумала Несветаева, а вслух сказала:
– Вы, может быть, слышали, Гудрон, про литературное общество – «Под куй Пе га са»?
– А-а-а, конечно, слышал. Известные тунеядцы и прожигатели жизни. Самокоронованные короли литературных посиделок.
– Зачем же вы так резко? Есть среди них и вполне приличные люди. И словом владеют. Хотите, познакомлю? Оцените сами, не по слухам.
Чёртики заплясали в глазах Чекова:
– А давай! Вот сейчас допьём – и погнали! Где знакомить собираешься?
– У нас сегодня мероприятие в одном модном заведении… Но туда ещё рано. К четырём приглашали.
Чеков отправился за новым графинчиком. Двумя. Баба Юля расплылась в улыбке, обнажив железные резцы.
Следующие полтора часа промелькнули незаметно для собеседников. Чеков дважды ненадолго отлучался – по малой нужде и расплатиться за очередной графинчик.
Взяв пресловутый графинчик и себе, авторы без труда подслушали разговор этой нелепой пары.
– Тебе вообще доверять-то можно? – спросил, вернувшись с раздачи с новой порцией горячительного, Гудрон, всегда ценивший в людях, особливо женщинах, умение держать дистанцию, если только оно не переходило в высокомерие, которое отставник беспощадно презирал. Поначалу его раздражало «выканье» случайной собеседницы, но Лиза держалась так просто, что он невольно почувствовал расположение к ней, несмотря на некоторую карикатурность её внешности.
А сегодняшнее употреблённое до того благостно легло на вчерашнее принятое, что расположило Гудрона к разговору по душам.
– Я иной раз и себе-то не особо доверяю, – после некоторого раздумья произнесла Несветаева.
– Если человек в себе хоть малость сомневается, он ещё не совсем пропащий, – удовлетворённый ответом Чеков отсалютовал стаканом.
– А вы?
– О, мне можно доверять всецело – в этом нет никаких сомнений!
Писатели – всамделишная и самоубиенный – весело рассмеялись.
– Эх, Лиза, – понимая, что ступает на тонкий лёд, осторожно начал Гудрон, – не кажется ли тебе, что литература не выживает в Верхнем Захолустье? – Чеков демонстративно обвёл взглядом сумрачное помещение вареничной. – Свету здесь не хватает. Под тусклым солнцем трудно зреют…