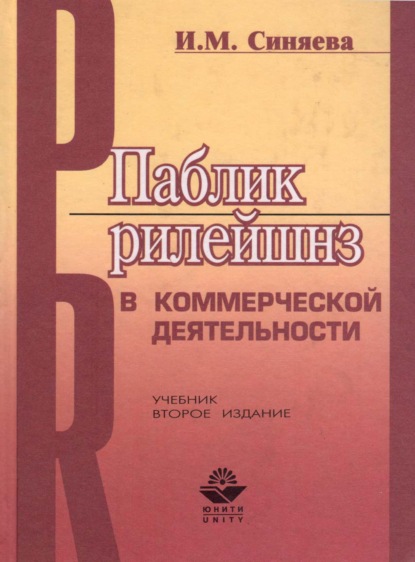- -
- 100%
- +
Лиза отпрянула от собеседника, будто обжёгшись о незаконченную, определённо слышанную ею прежде, фразу.
– Киснем, как молоко, – сбившись, недоумённо продолжил Чеков. – Прозябание.
– Прозябание – это внутреннее, от внешнего не зависит, – неожиданно твёрдо возразила Несветаева. – И в столицах можно… жизнь… в никуда. «Чего ты ждал? Того ли ты достиг? Плетёшься ты среди таких же ждущих… Разве ты заметил, Как он прошёл, единственный твой день?»
Лиза с надеждой всматривалась в лицо своего визави, но нет, он не уловил. Не читал, значит. Да это и не печаталось, наверное.
– Да я не о том! – махнул с досадой Гудрон. – Не думаешь, что пора расширить горизонты? Может, податься куда? Мир посмотреть.
– Вы предлагаете миграцию в более плодородные места? – голос Несветаевой стал жёстким.
– Чур тебя! Совсем тут с мыслями о загранице кукухой поехали! Нет, – отчеканил Чеков, зло и безапелляционно: – я, Лиза, Родину люблю. И ни за какие коврижки. Ни за какие, – тут Гудрон, качнувшись, подпёр стену спиной и уже расслабленно продолжил: – Я про экскурсионный вояж талдычу.
– И куда же? – успокоенная Несветаева вновь благосклонно поглядела на Чекова. – В столицу?
– Москва – зело жирный и развратный город, но таки и в нём есть много чего для души, – задумался Гудрон. По его виду было понятно, что на себя примеряет и как место жительства, но, впрочем, не особо удовлетворён собственным умозаключением. – Если только проездом, – в итоге подытожил Чеков.
– Пе-тербург? – С какой-то непонятной натугой спросила Несветаева, словно хотела назвать город по-иному, но вовремя спохватилась.
– Место, где закатилось так много солнц? Нет. Я, вишь ли, не сторонник промозглых праздников и дождливых будней, – сыронизировал Гудрон.
– Так что вас привлекает?
– Глубинное, родное привлекает. Сердечное.
Будь Чеков не так расфокусирован выпитым, обратил бы самое пристальное внимание на то, как подалась вперёд Несветаева и с какой затаённой надеждой ловила каждое слово собеседника.
– А сердце, – продолжил Гудрон, – сердце нашей страны бьётся и трепещет, думается мне, в Свердловске. Значит, нам туда дорога.
Писательница с шумом выдохнула, будто произнесённое «Свердловск» обладало какой-то особенной важностью для неё и служило паролем для сближения.
– Знаете, Гудрон, возможно, мы вскорости сможем с вами перейти на «ты».
Вывалились они из вареничной разгорячённые не только спиртным, но и чем-то ещё (авторы, добравшиеся до финальной фразы, разумеется, знают чем, но спойлерить не станут), раскрасневшиеся и размягчённые неожиданной встречей. Несветаева повела Чекова в место сбора лито.
Через десять шагов она остановилась, круто повернулась, опять оттоптав Чекову ноги, впрочем, тот уже был в таком состоянии, что не сильно обратил на это внимание. Несветаева схватила спутника за воротник, рывком притянула к себе и жарко задышала в ухо новому знакомцу.
– Пообещайте мне, что в Свердловск поедем вместе. Обязуюсь показать то, что сокрыто от эску… экскурсоводов, – слово «экскурсоводов» она произнесла всего с одной запинкой, хотя на пару с Чековым в них плескалось не меньше пятисот граммов.
– Конечно!
– И вот еще, пообещайте мне, что будете называть меня только по фамилии.
– Лиз, а почему только по фамилии?
– Занадом, занадом. Не хочу, чтобы кто-нибудь знал, как меня по-настоящему зовут.
– О, как! Ну, ладно.
– Васильковой называйте.
– Нет, от этой фамилии у меня изжога, буду тебя называть Несветаева. А что, и никто в «Пегасе» не знает твоего настоящего имени? – Чеков недоумённо посмотрел на спутницу.
– Кто. Вот он знает, – непонятно объяснила Лиза и зашагала вперёд.
Чеков поскрёб в задумчивости макушку и припустил за Несветаевой.
Авторы, курившие в это время на парковой скамье в жидкой аллейке, разделявшей две полосы движения, тотчас встали и пошли быстрым трезвым шагом, чтобы опередить пьяненькую парочку и занять лучшие для обзора места.
Глава 4. ЛИТО ГУЛЯЛО
– Чеков, ну что вы, в самделе, как институтка? – Несветаева вполне освоилась в общении с Гудроном. Толстая, выкрашенная хной, чтоб не лезли волоса, авторка длинных, как очередь в районную поликлинику, стихов (здесь авторы немного повздорили на тему, стоит ли унижать героиню столь прямолинейным описанием, но сошлись на том, что оба они за правду в искусстве), энергично постучала закаменевшей воблой о столешницу. Пластиковые стаканчики, в которых водка как раз женилась с чешским пивом, подпрыгнули, Чеков расстроился: выплеснутого было жаль.
– Что вы фрустрируете? – продолжила Несветаева, взяв в окружении литераторов другой тон. Словно латы нацепила. – Ну поругали. А кого, скажите мне, не ругали? Не руганный писатель – это как, простите, пустой кондом, который не на что напялить. А вы наполняйте уникальным контентом, без ругачки не созреет.
– И вообще, – тут Несветаева немного помолчала, сосредоточенно сдирая с пунцовой воблиной тушки обмякшую кожу. Чешуйка блеснула жемчужиной и приземлилась на плечо Чекова. – И вообще, вы большой мальчик – и так разнюнились. Писателя он в себе убьёт! Ты его вначале роди, писателя-то. Пожуй говна на литсайтах, на литошных разборах, от редколлегии в журнале по мордасам получи. Сейчас-то всё онлайн, а раньше прям рукописью, прям рукописью, листы фррр! – а по полтиннику страница машинистке отдай, вот где горе-то было…
Вот я, – продолжила Несветаева, окидывая подслеповатым взглядом обширную грудь – не прилипло ли. В смысле, рыбьих чешуек.
Отряхнула.
– О чём бишь я? Ах, да.
«Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плЮет на алтарь, где твой огонь горит», – продекламировала собутыльница. – ПлЮет, заметьте, Чеков. Сегодня бы автора за неправильное ударение сразу бы по сусалам. Так то Пушкин! – Несветаева выставила вверх указательный палец с облезшим маникюром, ребро ладони блестело вязко стекающим рыбьим жиром. Несветаева огляделась, обо что бы отереть.
«Какой пиджак у Чекова, – подумалось ей. – Писательский. Поэты в таких не ходят.»
– Вам бы, Гудрон Карлович, одёжу поменять, – твёрдо сказала Несветаева. – Свитерок там какой, толстовку. Худи, наконец.
– Ххули? – не расслышал Чеков.
В заведении было шумно – лито гуляло и духарилось вовсю.
«Под куй Пе га са» – пьяненько произнёс про себя претенциозное название Чеков.
– Я вас представлю, – неожиданно Несветаева дёрнула за рукав проходившего их столика руководителя лито.
– Ндаа? – притормозил руководитель «Подкуенного (чёрт, как это правильно? под-ковено-нно, подко-евонного? – авт.) Пегаса», относительно молодой, не сильной ещё потёртости, человек мужского пола (хотя… хотя…, нет, тема скользкая), худощавый и одетый с лоском, доступным в городишке регионального подчинения, Вениамин Лойко.
– Это Чеков, он из литкружка при районной администрации. Печатался в муниципальной газете. Неоднократно. Прозаик, – грудным голосом, ещё чутка понизив тембр для вящей обольсти – зачёркнуто – внушительности, – пропела Несветаева. – Прошу любить (чёрт, чёрт, скользкая тема!) и жаловать.
– Вениамин Степанович, – протянул новичку руку Лойко.
Чеков сжал узкую ладонь, но не сильно: боялся смять косточки возможного какого-никакого будущего начальства. Приветствие вышло вялым, как… как там сказала эта разухабистая баба из лито, в которой теперь едва проглядывала его недавняя застенчивая собутыльница из вареничной? Как то, что никак не впихивается в кондом?
– Как же шумно здесь, – подосадовал Чеков. – Толком не расслышишь.
На столике откуда ни возьмись взгромоздилась пузатая бутылка бурбона.
Это подсуетился Зигфрид Конотоп, пожилой детский писатель. Он собирался закинуть свежие рассказики в альманах, на издание которого раз-два в год наскребало лито по спонсорам, удовлетворив их «датскими» рифмованными панегириками. Ну, и главный спонсор обычно открывал альманах своей какой-нибудь забубенью. Конотоп писал как минимум не хуже спонсора, но всё же на всякий пожарный проставился.
Если б не Веничка – не Лойко, другой, – дальнейшие события прозаик Чеков описал бы так: «и немедленно выпили».
Но эта прекрасная лаконичная фраза, которая, собственно, одна могла составить всю поэму, была занята. Интертекстуальность Чеков не признавал, считая её тупо плагиатом и литературным рейдерством.
Короче, все стремились надраться в зюзю. Несветаева ушла «не соло нахлебавши», как написала одна девочка в рассказе, который Несветаевой, как рабочей лошадке «Под куй Пе га са», принесли на рецензию, заодно выправила: девочка была государева – зачёркнуто – спонсорева племянница.
Так вот, Несветаева ушла с этой вечеринки как раз «соло».
Одинокие ночи – матери стихов.
Глава 5. ПРОДОЛЖЕНИЕ БАНКЕТА
Чеков мутным взором окинул заведение. Дым стоял коромыслом.
В своё время какой-то литошный острослов окрестил модный пивнарь (в регистрационном свидетельстве это называлось пивотекой) богадельней. Название прижилось намертво. Теперь на вопрос домашних:
– И где на сей раз носило твою пьяную рожу? – всякий уважающий себя литошник честно отвечал:
– Богоугодными делами занимался.
Тут авторы должны заметить, что Алёна Гомеровна сочла бы неправомерной и вопиюще мезальянсной семантическую пару «носило рожу», а надо бы написать «ну и где тебя носило, пьяная рожа». Но авторы в лито не состоят и им глубоко индифферентны замечания непрошенных рецензентов.
Гудрон Карлович приметил у барной стойки модного поэта Олафа Гиенкина, творившего под псевдонимом Нектарий Семицветский.
Олаф был фигурой в высшей степени примечательной. Тонкий в кости, он являлся носителем высокого нежного сопрано. Гиенкин читал свои стихи публике, активно жестикулируя и подавая руку вперёд так, что перед зрителем обнажались узкое девичье запястье и розовая ладонь, никогда не державшая ничего тяжелее поэтического пера, пардон, айфона.
Про обладателя чужеродного русскому уху нордического имени ходило много интересных, забавных, занятных историй в лито. Но все: и почитатели, и хулители семицветскиного таланта – отмечали высшую степень его грусти.
Олаф любил пожаловаться на жизнь. При этом весьма беспочвенно.
Его книги, даже самые дрянные, издавались, но он сетовал на оскорбительно маленькие гонорары за свои нетленки. Они унижали его и как поэта, и как мужчину (корявая фраза, заранее согласились с дотошным читателем авторы, то ли гонорары унижали, то ли нетленки. Авторы и стремились к двоякому толкованию. Они ещё не раз покривляются в этом тексте, шуты гороховые.).
Гиенкина приглашали в столичные города читать свои неожиданно суровые, не вяжущиеся с внешней утончённостью, эпосы армиям влюбленных в поэзию. Но по приезде домой он неизменно досадовал на неблагодарность публики и отсутствие битком набитого зала.
По наследству от родителей ему досталось трёхместные хоромы в самом центре Верхнего Захолустья, однако и здесь он отмечал высокую оплату за коммунальные услуги, опуская завидную высоту потолков, необъятность прихожей и подсобных помещений и совершенно левитановский вид на извилистую речку Змеючку в живописных даже в пору серой, уставшей зимы берегах.
Из других, противоположных, окон открывался замечательный вид на главную улицу Верхнего Захолустья, но Семицветский всякий раз подчёркивал, что воздух в его опочивальне не всегда свеж из-за выхлопных газов проезжающих автомобилей.
Одевался Олаф под стать своему настроению: исключительно в чёрное.
Гудрон Карлович только сейчас рассмотрел Гиенкина вблизи, до этого лишь довольствовался едкими, но нужно признать, очень точными несветаевскими комментариями по поводу модного поэта. Несветаеву бесило даже не само бесконечное уныние, низвергавшееся с поэта обильным потоком, как с прогрызенной сусликами плотины, а бессовестный контраст между истинным положением дел Гиенкина и его мнимым неблагополучием.
Когда-то, в юности, один не сильно старший товарищ пояснил ей: «Как пишешь – так и живи. А иначе, прости, Лизок, это всё бубнёж на постном масле». Совет она хранила как заповедь со скрижалей и лично оскорблялась, когда чуяла враньё.
Вот и сейчас Олаф наклонился к белому плечу своей собеседницы и что-то жалостливо выхныкивал по поводу своей нелёгкой литературной судьбины.
В роли жилетки для Гиенкина выступала небезызвестная всему Верхнему Захолустью (и даже в областном граде Стрежнёве) госпожа Ирма Штык – пергидрольное во всех местах нежное создание со столь алапажными моральными установками, что поэтку крайне ценило всё мужское население не только богадельни, но и всего их богоспасаемого городка, где, как известно, слухи разносятся со скоростью тайфуна.
Штык импонировало внимание. Ирма обожала, когда вокруг нее крутится жизнь.
И желательно, чтобы вихрилась эта жизнь вокруг тонкого стана Штык представителями кредитоспособной половины человечества.
О её романах (любовных, конечно, к счастью, неопубликованных) ходили легенды – многие из которых были пущены в мир самой авторкой, героиней этих сказаний.
Ирма любила напустить туману в разговорах о себе. Каждый раз вставала она с нового ложа с новой историей, причём вторым персонажем становился непременно кто-нибудь из известных в масштабах города или вовсе страны лиц мужского пола. Но историю в народ она пускала так ловко, что как бы и не сама послужила источником утечки.
Нужно отдать должное Ирме, не все легенды были лживы. Многие слухи, которые о ней ходили, оказывались сущей правдой.
Пожалуй, под очарование прелестницы не попали только детский писатель Зигфрид и, собственно, Чеков.
Конотоп брезгливо отворачивался, когда речь заходила об искусительнице, а Гудрону просто ещё не довелось познакомиться с охотницей за мужскими… головами.
Вот и сейчас Ирма сверкнула металлокерамикой в направлении Чекова. Это и предопределило продолжение вечера.
Модный поэт с нескрываемой неприязнью, а Штык с определённой долей заинтересованности наблюдали, как к ним через всю залу несёт пьяную рожу самоубиенный писатель…
Глава 6. РАЗМАХАЛИСЬ КОПЫТАМИ
Итак, Чеков нёс свою пьяную рожу по направлению к мило воркующей парочке литошников.
Походка его была нетвёрда, а вернее сказать, жидкая, ибо Гудрон Карлович был пьян в дымину.
По пути Чеков умудрился спикировать на стол, за которым чинно пировал красивый седовласый детский писатель Зигфрид Конотоп с какой-то барышней неопределённого таланта и возраста.
Зигфрид возмущённо развёл руками, Гудрон в ответ повторил жест Конотопа, но с большим раскаянием в мутных глазах. Внезапно вспыхнувшую взаимную симпатию тотчас решено было скрепить брудершафтом. Пили долго, целовались самозабвенно. Конотоп полыхал синим глазом из-под неседеющей брови, второй прикрывала залихватская не по годам чёлка, как у актёра Любшина.
Олаф уже было с облегчением выдохнул, в надежде, что не внушающий доверия субъект временно нейтрализован, но тут неожиданно фигура Чекова материализовалась прямо перед ним.
Гиенкин нежно облобызал идеальные пальчики Ирмы и шагнул вперёд, дабы поприветствовать собрата по перу подобающим образом, протянул свою узкую белую ладонь. Собрат к такому обращению не привык и хитрым особистским движением выкрутил руку модного поэта, воткнул того изящным носом в груду окурков на полу и вдобавок случайно задел носком ботинка причинное место поверженного небожителя.
Олаф заскулил на высокой ноте и безуспешно попытался встать, пригвождённый крепкой пятой Гудрона. «Ах ты, паскуда» – обречённо подумал поэт.
«Ты даже не представляешь, насколько» – мысленно парировал Гудрон и инфернально расхохотался.
Конотоп, раздосадованный, что без его мускульного участия происходят столь занимательные события, ринулся на помощь собутыльнику, отшвырнув мешавший ему стол, но успев придержать за локоть от неминуемого падения неопределённую барышню.
Чеков, не разобравшись, встретил неожиданную подмогу стремительным джебом, присовокупив к тому ещё и тяжёлый кросс в область скульптурного подбородка детского писателя. Конотоп начал оседать. В попытке сохранить вертикальное положение Зигфрид ухватился за рукав пиджака Гудрона, дёрнул и выдрал «с мясом». Обнажилось мускулистое, поросшее жёстким медным волосом плечо Чекова (под пиджаком, окромя крепко сбитого туловища, ничего не оказалось).
Зигфрид непонимающе уставился на твидовый лоскут, о который отбывшая задолго до потасовки Несветаева таки успела отереть свои пальцы от рыбьего жира. Однако через фигуру обидчика всё-таки попытался пнуть распростёртое тело модного поэта. Чеков покаянно прижал ладонь к левой части груди, признавая свой просчёт, и отошёл в сторону, не мешая Конотопу поучаствовать в празднике.
Ирма Штык, в полной мере оценив рыцарские поползновения Гудрона Карловича, бесстрашно приблизилась к Чекову и проворковала что-то поэтическое ему на ухо, навроде «Ах, как это прэээлестно, когда за честь дамы!». То, что эта самая честь была безвозвратно утеряна примерно в том же году, когда танки разъезжали по брусчатке Кремля, Ирма всегда благоразумно умалчивала. Она вообще не любила прилюдно вспоминать о своём возрасте и любовном опыте – дабы не отпугнуть потенциальных претендентов на Ирмино внимание и зарождающийся творческий альянс.
Чеков почувствовал, как маленькая женская ручка с идеальным маникюром, принадлежащая Штык, крепко взяла его под локоть и потянула к выходу из заведения. Ручка, без сомнения, была красива и ухожена, но угасающее сознание Чекова сыграло с ним злую штуку – ему привиделось копытце, впрочем, тоже вполне холёное.
В мозгу пронеслось забытое: «не пей, козлёночком станешь». Гудрон мотнул головой, отгоняя дурные мысли. И в это время зазвонил телефон.
Чеков начал шарить по карманам. Пару раз ошибался и порывался расстегнуть молнию на брюках, но вовремя одёргивал себя. Наконец, аппарат оказался в руках незадачливого донжуана.
– Да? Несветаева? Чего, завтра выдвигаемся? Ага, плЮет! Ага, на алтарь! Ну, горит, конечно, здесь так горит, ты не поверишь…
Гудрон Карлович выдрал свою конечность из цепких объятий Штык и не оборачиваясь покинул «богадельню».
Разочарованная Ирма кинулась поднимать Олафа.
А в это самое время на другом конце шумного по случаю пятницы в целом сонного города Несветаева нажала «отбой», с хрустом потянулась, снесла голову прикроватному торшеру и пробасила себе под нос:
«За окном падает пер-вый снег,
Ты уснёшь в городе поз-же всех.
То ли обратно, то ли тудаа
Ехать оста-лось – ерун-да.
В центре стука колёс – тиши-на,
Ты стоишь в тиши-не у окна.»
Курылёвским «первым» снегом не пахло, скорее, прошлогодним. Расквашенные короткой оттепелью дороги к ночи подмёрзли. Неуклюжая писательница зябко поёжилась, вспомнив, как она добиралась с вечеринки.
Глава 7. НАРОДУ СВОЕМУ
Несветаева едва удерживалась на каблуках и чуть не соскользнула под притормозивший таксомотор. Но нет, умирать не время. Несветаева ещё не всё сказала миру. Публиковалась она, как мы уже сказали, под незатейливым псевдонимом Рогнеда Василькова, считая свою фамилию слишком… слишком перекликающейся, да.
В имени Рогнеда была зашифрована трагедия её молодости, но считывать тонкие смыслы умели только старые литераторы, не годившиеся для… для… нет, слишком скользкая тема.
Стихи Рогнеды Васильковой отличались патетикой и обращением накоротке, как к давней приятельнице, к Смерти. Тени прошлого создавали некий флёр в поэтике этой грузной женщины, нисколько не похожей на поэтку – ни белокурых локонов, ни тонкого стана, ни тонкой сигареты в длинном мундштуке. Рогнеда, то есть Несветаева, курила строго «Приму».
Она была вдова. Многие даже шептались, что Чёрная Вдова – стольких она проводила. Высокая трагедия звенела в её нарочито грубых, мужиковатых, строчках – реминисцируя, как льстила себе Несветаева, с её почти однофамилицей.
Я – не она. Не удавлюсь. И пусть подавится
Страна, в которой гениев хоронят
По три на дню – куда ж могильщикам управиться!
Ведь есть почившие, поэтов кроме.
Сегодня Несветаева была безобразно трезва – вычеркнуто за недостоверностью. Но хотелось добрать.
Покидая распивочную в одиночестве, Несветаева заметила, как некоторые не окончательно пьяненькие пегасцы били копытом вокруг Ирмы Штык. Ирма была звезда.
Лучи её славы простирались над сереньким городишком, Ирму охотно звали почитать своё на местное радио: Штык хорошо выглядела в кадре, но телевидения в их городе как-то не завелось. Приходилось довольствоваться радиоэфиром. Может, и к лучшему, ведь под софитами обнаружилось бы, как Штык ведёт долгую позиционную войну с морщинами.
В деликатном, шепчущем свете баров она оставалась молодой и хорошенькой, а утром всё было уже не важно: добыча съедена.
Несветаева, хоть и попивала, свои шансы оценивала трезво: их не было.
Она полезла в верхний отсек буфета, там мерцал в толстом стекле подаренный одним свердловским поэтом – хотя он и забросил это занятие, коньяк.
С Ирмой у Несветаевой, как у всякой некрасивой женщины с красивой, были тотальные разногласия. Они касались всего. Но свирепее прочего дамы расходились в вопросе, что стихи, а что не стихи.
Несветаева не терпела постмодернистов. Так честно и писала: не люблю, мол, постмодернистов и ковыряльщиков в носу, когда слова они неистово лишают всяческого смысла и дичь отборную несут.
Штык на это кривила фарфоровый рот в презрительной усмешке и парировала, мол, Несветаеву, то есть Василькову, могут слушать только бичи у киоска с дешёвым пойлом – размазывая по не знавшим умывальника и полотенца опухшим лицам слёзы благодарности и экстаза.
Василькова, то есть Несветаева, втайне гордилась популярностью у парий.
А иногда даже и не втайне.
Ты брат ли мне, пропойца у киоска?
Давай уже докурим эту жизнь.
Внезапная, как аневризма мозга (Несветаева, то есть Василькова, любила образы из медицинского словаря),
Пусть лопнет обезбоженная высь.
Или:
Мы с тобою хозяевам этой земли
Заявляем: да кем бы вы не были (тут требовалось «и», но Василькова, то есть, Несветаева, пренебрегала такими мелочами),
Это мы, пусть в блевотине, в саже, в пыли —
Это мы унаследуем небо.
Лиру она посвящала народу своему.
Порой Несветаева думала, что зря задержалась в «Под куй Пе га са». Местечковая тусовка неумелых рифмовальщиков, прячущих недееспособность за выкаблучиванием и надругательством над словами.
Из слов модные поэты экстрактировали всякий, даже остаточный, смысл и предлагали публике декофеинизированный обезглютененный продукт, который не питал уже ни ума, ни сердца читателя.
Рогнеде постоянно тыкали неким однофамильцем знаменитого русского поэта, этот самый однофамилец когда-то обозвал и припечатал приверженцев метрического стиха идеологами эстетического застоя, они-де пытаются утянуть поэзию в глубокую дыру – если не сказать, невылазность.
Несветаева считала, – и отстаивала где могла – что читателю и русской словесности покойно в этой метафорической «дыре», а покой, как мы знаем – псевдоним счастья. Стихи самого превозносимого однофамильца она нашла и прочла, и сочла неприкрытой издёвкой над цензором. В его время да – уместно было пошалить и подиссидентствовать, но всё это была игра для скучающих своих, этакий капустник. Ежели б это было напечатано, читатель покрутил бы пальцем у виска.
«ЩербетКомет факультетМехметФуршетКабриолетКабриолет фуршетПаритетБаронетГенералитет» – или что-то вроде.
Сегодня это издано и даже возведено. А народ уже пообвыкся, напробовался и решил в книжные боле не ходить, а употребить трудовой рубль на отпуск в каком-нибудь Мармарисе.
А что там Чеков рассказывал ей про какой-то сайт? Вроде, обижался, мол, редакторы покусывают. Зато, говорил он, там размах! От Москвы до самых до окраин.
Почти сто тыщ посещений в месяц. Не ворваться ли? Не вздыбить?
Несветаева (или Василькова, она уже и сама не помнила кто), спотыкаясь в тесной комнате, загромождённой старой (она никогда ничего не выкидывала) мебелью, наконец доковыляла до дивана.
Спать.
Она подумает об этом завтра, – пронеслось уже где-то читанное в отяжелевшей голове.
Вроде бы она ещё кому-то звонила. Но тяжёлые воды сна уже поглотили её, не давая вспомнить, кому.