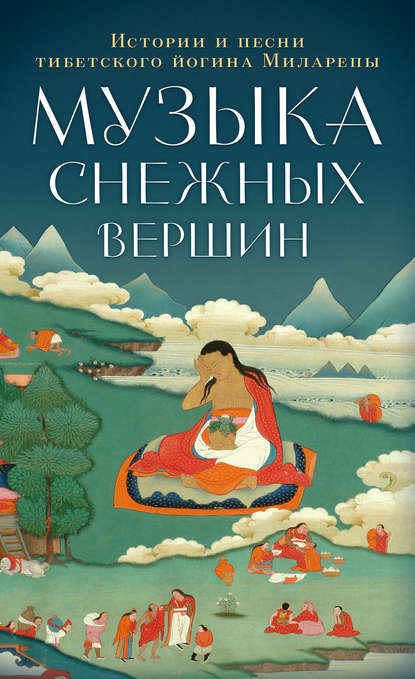- -
- 100%
- +
Глава 8. ПЕРВЫЙ СОН НЕСВЕТАЕВОЙ
Девчонки взвизгнули от колких капель, зашипевших на раскалённой от их долгого лежания на открытом солнце коже. Кучка приятелей, смеясь, отряхивалась после купания прямо на покрывало, расстеленное поверх высохшей травы на пригорке у лодочной станции. Снизу, от воды, неслись встревоженные и недовольные крики женщин, не сумевших загнать внуков с посиневшими губами из моря на лежаки.
Над пляжем, во всю его ширь, из репродуктора неслись звуки модной музыки. Лиза с одноклассницей вскочили и направились на мостик, где были ребята постарше.
Периодически взрослые парни с подружками уединялись в прохладные камни голицынского замка – полуразвалины дачи знаменитого русского сейсмолога. Дача высилась над пляжем, среди выжженной июльским солнцем степной травы, под сенью высоких дерев, жаловавшихся на небывалый зной – без одного хотя бы дождя в то лето – сухим шелестом пожухшей листвы. Лиза с Каринкой исподтишка бросали взгляды в сторону запретного места, гадая, что именно там происходило. Воображение, не подкреплённое опытом, быстро капитулировало перед великой тайной любви, и девчонки переключались на что-нибудь менее интересное, но более представимое. Из воды, шлёпая ластами, как раз выбирался знакомый мальчик с полной сеткой рапаны.
Девчонки проголодались. Мятые, спёкшиеся на жаре абрикосы и помидоры из кулька уже были съедены. Влёт ушли и купленные мальчишками у буфетчицы с коробом-термосом промасленные жаренные пирожки с мясом и повидлом. Все добытые из нехитрой снеди калории давно сожжены в играх в воде, нырянии и заплывах наперегонки. Надо идти домой на обед, бабушка ждёт с супом, но как уйти с пляжа – вдруг пропустишь что-нибудь интересное? Вечно так, только отлучись.
Девочки переместились на галечный пляж, где под скалой мальчик уже разводил костерок под жестяным листом, уложенным на два валуна. Старый алюминиевый тазик, рачительно прихваченный из графских развалин (здесь после войны горсовет выделил квартиры для нескольких семей, жилья в почти напрочь стёртом бомбёжками городе не хватало; этим ещё повезло, многие жили в землянках) быстро раскалился, и вода в нём забулькала. Мальчик ссыпал корявые, обросшие более мелкими ракушками, раковины, и все расселись вокруг очага на корточках. Подростков всё прибывало на неожиданный пир. Через пару минут потянуло немного раздражающим и отдалённо пряным – Лиза никогда не могла описать этот сладковатый запах варёных моллюсков, пока не стала взрослой и не услышала близко естественный аромат мужского тела, только что сбросившего напряжение.
С уловом разделались в два счёта, сбегали запить к фонтанчику, а Лиза с мальчиком отправились на родник, от воды которого ломило зубы, укрытый в гроте из ежевичных зарослей…
Лиза открыла рот и выпятила в карманное зеркало чёрный от ягод язык.
Стрельнула солнечным зайчиком в подружку.
Пора было всё же собираться домой, и девчонки дали друг другу слово, что искупнутся ещё только разок и обсыхать будут уже по дороге…
Глава 9. ПРОДОЛЖЕНИЕ БАНКЕТА
Тихий исход Чекова из пивной приметила не только разочарованная Штык.
Детский писатель Конотоп, каким-то непостижимым образом оказавшийся рядом точнёхонько у дверей богадельни, вышел тотчас за Гудроном Карловичем, догнал быстро, но зигзагообразно удаляющуюся фигуру, и тронул за плечо. Чеков обернулся, и Зигфрид протянул тому руку. Состоялось обоюдно приятное рукопожатие; Чеков воспрял, почувствовав стальную ладонь детского писателя – хоть кто-то мужик в этом сборище, – и молча растворился в темноте улицы.
Авторы тоже удовлетворены таким раскладом. Честно говоря, их давненько подташнивает от верхне-захолустинского (а в другие они не вхожи) литературного бомонда. Чтобы подавить отвращение, им нет-нет да и приходится наведаться в вареничную или раздавить шкалик где-нибудь на лавочке в укрывистой аллее. Огорчённая авторская печень (в количестве двух штук) тоже тихо ненавидит проклятое гендерно искалеченное лито.
Зигфрид поднял голову в звёздное небо, что-то прошептал, прислушался, удовлетворенно кивнул. Со стороны казалось, будто он ведет молчаливый диалог с кем-то, советуется, слушает дальнейшие наставления невидимого собеседника, соглашается с ним.
В богадельню Конотоп вернулся бодрым шагом, как будто и не выпил столько часом ранее, держал спину прямо и вообще вёл себя как абсолютно тверёзый. Хотя тот же Чеков, употреблявший наравне с Зигфридом, как мы помним, был пьян мертвецки, и только вовремя включившийся автопилот не позволил самоубиенному писателю действительно самоубиться. Что непременно произошло бы, останься он на месте своих недавних подвигов – то есть, в пивотеке, где только начинало твориться форменное безумие, называемое участниками «Под куй Пе га са» славными посиделками.
Народ продолжал прибывать. В скором времени заведение заполнилось до предела. Воздух становился всё более спёртым, а пьяный ор всё громче.
Творческая элита Верхнего Захолустья читала свои нетленки с места, из-за столиков, на которых уже насвинячили, и с импровизированной сцены, выкрикивала модные нынче постмодернистские похабности, восхваляла своих корифеев, подобострастно бисировала их и неодобрительным гулом встречала неугодных, выхаркивая из чрева богадельни особенно не понравившихся.
Зигфрид долго искал кого-то взглядом, затем, видимо, нашедши, не спросясь (что было вовсе не похоже на Конотопа, отличавшегося просто какой-то нечеловеческой вежливостью), подсел за столик к ещё одному представителю когорты общепризнанных талантов – Ждуну Прихлёбкину.
Означенная персона была известна как человек, удобный всегда и всем.
Во всём рыхлом и расползшемся теле Прихлёбкина чувствовалась какая-то неестественная для такого громадного тела мягкость, но не мягкость человека, прошедшего многое и многое же прощающего, а мягкость женственная, податливая, коварная.
Со Ждуном было удобно поддерживать беседы на любые темы, его персону руководство лито охотно приглашало на все творческие мероприятия, понимая, что в лице приглашённого обретают громкий голос «за» любое паскудное решение.
Напротив удобного творца, за тем же столиком, сидела очаровательная в своей невинности Танюша Веретенникова, по неопытности и наивности принесшая на суд этой своры свои стихи.
Ей точно было не место ни в самом лито, ни тем более здесь, в смрадной атмосфере кабака, но девушка искренне думала, что идёт на пиршество творческих озарений, и теперь сидела растерянная.
Про новенькую говорили, что она небесталанна и подаёт надежды, нужно только огранить этот самородок, но в слово «огранить» похотливые корифеи вкладывали какой-то сальный смысл, а стихов Танюши не выпускали, и большинство литошников их и не слыхивали. Только покровительствующая юной Веретенниковой в ущерб себе Несветаева и взявший над девочкой шефство Зигфрид удосужились прочесть.
Вот и сейчас надёжный, как скала, Конотоп отшвырнул жирную пятерню Ждуна от тонких пальчиков Танюши и прошелестел ей на ухо:
– Милая, нам пора, собирайся. Дальше приличным людям здесь не место. Приличным людям здесь вообще не место.
Танюша согласно кивнула и взяла сумочку.
Зигфрид галантно предложил свой локоть наивной подшефной, получил полный благодарности взгляд в награду и, так же, как ранее Несветаева, а затем и Чеков, покинул с юной протеже злачное место.
Оказавшись на свежем воздухе, Зигфрид вежливо, едва касаясь твёрдыми губами, поцеловал кончики пальцев своей спутницы, поймал проезжавшую попутку, громко и чётко назвал водиле адрес, присовокупив к словам изрядную сумму дензнаков, и сунул в нос оторопевшему таксисту приличных размеров костистый кулак. На всякий.
Машина взвизгнула, тронувшись с места. Конотоп, оставшись один, зычно расхохотался и опять обратился к своему невидимому собеседнику, но уже вслух, разрезав тишину верх-захолустинской ночи твёрдым:
– Всё сделал, как просил. Теперь дело за тобой.
Затем его высокая, с военной выправкой фигура как-то истаяла, и улица вовсе обезлюдела.
Глава 10. ВАКХАНАЛИЯ
Прихлёбкин, лишившись столь внезапно своей спутницы, совсем не огорчился, а даже наоборот возрадовался: Танюша не была завидным или полезным знакомством.
Дело в том, что Ждун любил всяческие удобства и поддерживал тёплые отношения исключительно с выгодными для себя людьми. К тому же, при всём своём непомерном аппетите (любил покушать Прихлёбкин, ой как любил!) и любви к искусству, не желал платить по счетам ни за съеденное, ни за прочитанное, всегда открещиваясь от принесённого счёта и написанного своей рукой.
Он писал бесталанные стихи, которые, впрочем, из-за «удобности» автора никто особо не обсуждал и не осуждал; на фоне прихлёбкинской галиматьи любой средний и даже плохонький поэтишка чувствовал себя светилом литературы – и за это Ждуна терпели, и даже малость уважали. А сам Прихлёбкин не требовал многого – всего лишь испарялся с горизонта, как только требовалось расплатиться, и появлялся лишь на следующий день, либо через неопределённое время, когда легкое неприятие его поступка рассеивалось.
Вот и сейчас Ждун уже позабыл так скоро покинувшую его Танюшу и продвинулся ближе к сцене, где восседала самая верхушка лито. Он углядел, что Ирма достаточно быстро привела в надлежащий вид пострадавшего в потасовке с Чековым скулящего Олафа.
Ждун придвинулся к парочке со словами:
– Ну что за безобразие сегодня творится! Как можно поступать подобным образом со знаменитыми поэтами!
В благодарность за поддержку Олаф заказал Прихлёбкину пива, и когда принесли пенное, придвинул кружку удобному союзнику. Ждун благодарно кивнув и одним махом осушил ёмкость. Вопросительно и моляще посмотрел на Гиенкина и продолжил.
– Таких вообще изгонять нужно.
– Изгоним, изгоним, не переживай. – отозвалась Ирма, – Ладно, мальчики, мне на сцену.
Мальчики, тонкий и упитанный, любовно проводили Штык глазами. Прихлёбкин стрельнул взглядом, полным преданности, в Олафа. Гиенкин грустно выдохнул и заказал ещё пива.
Лито умолкло: на сцену забралась неотразимая Ирма. Оглядела присутствующих долго и томно, выждала необходимую паузу, чтобы угомонить собравшихся. Затем звонко затараторила, на манер модных телеведущих:
– Асейчасдорогиемоикогданашезаведениеизбавилосьнаконецотпостороннихиненужныхличностеймынаконецтоможемначатьнашпраздник!
***
То, что происходило в пивотеке далее, иначе, как вертепом, назвать у авторов язык не повернётся, хотя они, признаться, видали всякое и даже, в незрелые лета свои, кое в чём поучаствовали, о чём им теперь напомнила мстительная печень.
Через полчаса после пламенной речи Штык пьяные в дымину верхне-захолустинские литераторы остервенело сбрасывали с себя одежды, дрались, визжали, катались по замызганному полу кабака и заливали тёмные уголки душного помещения биологическими жидкостями всех сортов.
Кто-то был замечен совокупляющимся в маленьком и тесном туалете заведения – мужчины или женщины, было уже не разобрать.
Стихло это непотребство уже под стыдливое народившееся утро следующего дня. Впрочем, Прихлёбкин узнал об этом несколько позже, по обыкновению покинув мероприятие загодя, прихватив из бара пару бутылок горячительного и целый поднос дармовых закусок.
Глава 11. СОБРАНИЕ В ЛИТО
Последовавшая за шумным мероприятием неделя прошла в относительном спокойствии для всех пегасцев и тех, кто посетил памятную вечеринку в бесплодной надежде вступить в ряды литературного общества. Вступить там оказалось можно только в дерьмо, какой бы смысл авторы ни вложили сейчас в это лаконичное определение.
Слухи о знатном разгуле ещё не расползлись тараканами по рабочим окраинам сонного и неторопливого Верхнего Захолустья. Поэтому герои сборища не успели искупаться в переменчивых лучах славы уездного городка. Зато поучаствовали ещё в одном собрании, но уже в стенах дома культуры, в штаб-квартире родного лито, где на повестку дня вынесли сразу три вопроса.
Нумером первым шло принятие в ряды пегасцев новых и активных членов, и обсуждение вышло бурным. Кого-то (устраивавшего верхушку сообщества) утвердили легко и безотлагательно, иных оставили в соискателях, как не вполне разделяющих творческие принципы корифеев и не успевших ментально сформироваться для современного искусства.
Кандидатура Веретенниковой, стоявшая предпоследней в списке претендентов на членский билет, была детально препарирована высоким собранием, но в целом принята буднично, без экспрессивных нападок со стороны наиболее ярых. Стал ли тому причиной загадочный Зигфрид, высившийся бастионом за худенькой спиной девушки, или пегасцы решили, что Танюша не боец и быстро сдаст позиции, отойдя от нафталинного канона силлабо-тоники, – об этом авторы достоверно не знают. Но факты таковы: Веретенникову приняли в лито быстро и без обычной подковёрщины.
Стоило же делу дойти до личности Чекова, единодушие наконец оставило комиссию. Гиенкин и Штык лютовали и требовали немедленного изгнания писателя не то что с собрания, а и со всех литературных площадок, чтобы даже на пушечный выстрел, чтобы духу…
Олаф, до сих пор не оправившийся от схватки с Гудроном, болезненно морщился, вспоминая подробности баталии, и даже тряс сухоньким кулачком перед носом непробиваемого Конотопа, выступившего на собрании в защиту Чекова. Ещё бы! Читатель-то помнит, как детский писатель на брудершафт с Чековым участвовал в рукоприкладстве по отношению к модному поэту (так впоследствии утверждал сам Чеков, ибо Зигфрид произошедшие события не упоминал вовсе). Но кулачок поэта, понятно, эту глыбу не устрашил.
Помимо Конотопа, за Чекова вступились известная бычьим упрямством Несветаева, а также – кто бы мог ожидать такой твёрдости! – только что принятая в ряды Танюша Веретенникова.
На руку этой неожиданно сколотившейся коалиции сыграло неуёмное желание Ирмы всегда быть в центре внимания и назначать себя тайным приводным ремнём всех событий. Штык наплела литошным кумушкам, что памятное побоище произошло за её, Ирмину, благосклонность. Стихотворицы с завистью выслушали похвальбу литошной примы, и каждая подумала про себя, что и поэтическая, и женская слава распределяется неравномерно и несправедливо. И некоторые нашли лёгкий способ подгадить Ирме, проголосовав за Чекова.
Столь же вероломны оказались и некоторые брошенные поклонники Ирмы, они и сами были не прочь пощекотать физиономию фаворита вожделенной поэтессы. Но если Чеков их опередил, то почему бы и не щёлкнуть Гиенкина по носу юридически безопасным способом, поддержав случайного союзника? В общем, многие литераторы слитным гулом одобрили заявление председательствовавшего Лойко о включении Чекова в члены лито, хоть и с испытательным сроком и под поручительство Несветаевой.
Второй вопрос из повестки дня был посвящён предстоящей лекции Зигфрида на тему: «Искусство должно быть живым».
Здесь, к удивлению противников сложившегося среди пегасцев порядка – Несветаевой и Конотопа – лито единодушно согласилось с тем, что в это непростое для страны и искусства время лекция на отвлечённую, казалось бы, тему будет крайне своевременной. И даже намеченную дату не пытались перенести – Зигфрид, как и год назад, особо настаивал на 17 февраля – её и утвердили. Почему семнадцатый день последнего месяца зимы был так важен для детского писателя, для многих оставалось загадкой. Несветаева могла бы просветить любопытствующих, но лишь отводила грустный взгляд, а сам Зигфрид загадочно улыбался и ссылался на то, что всякому знанию – свой черёд.
Авторы, разумеется, посвящены в эти календарные тонкости, но спойлерить не станут. А может, найдутся и догадливые читатели, для которых означенная дата тоже имеет сакральный смысл, втайне надеются они. И, утешенные этой мыслью, идут к бабе Юле за новой порцией горячих, плавающих в растопленном сливочном масле, вареников. И ещё кое-чем.
Надо сказать, прошлогодняя лекция Зигфрида имела успех в рядах вольных слушателей и кандидатов в лито, но неожиданным побочным результатом стало то, что ни один из посетивших лекцию больше не пересёк порога «Под куй Пе га са».
Скандал тогда разразился страшный. Почтенного Зигфрида обвинили никак не меньше, чем в диверсии против передовой литературной мысли. Более всех, конечно, язвили и брызгали ядом Геннадий Цыкутка, обещавший обрушить весь свой сатирический талант на развенчание методологии Конотопа, а также господин Лойко, недосчитавшийся в кассе членских взносов. Однако время прошло – и страсти улеглись.
Здесь авторы вынуждены прибегнуть к отступлению, чтобы читатель понял, кто есть Цыкутка. О, это страшный человек! К нему прислушивались, потому что, хотя текстов его никто никогда не видел, но за Цыкуткой закрепилась слава, что его творения гениальны, не то что «у каких-нибудь там череповчан»; критические же разборы и комментарии Геннадия были таковы, что их никтошеньки не понимал, но признаться в этом было стыдно – а вдруг всплывёт, что кто-то другой да понял? – а ты просто туп и плохо образован. И все побиваемые маститым критиком авторы согласно кивали на его хлёсткие, но невразумительные замечания. Кроме Конотопа – Конотопа в лито вообще не трогали. И Несветаевой – юродивая огрызалась.
Сегодня Цыкутка был тих и покоен. Однако от внимательного Чекова, который находился в аудитории в роли молчаливого истукана, так как Несветаева заранее взяла с него слово не вступать в пререкания, не ускользнул злобный перегляд Геннадия и Вениамина. Гудрон тронул плечо Несветаевой и жестом указал на смущавшую его картину. Писательница кивком дала понять, что тоже обеспокоена, и шепнула Чекову:
– Не иначе, замышляют сорвать лекцию Зигфрида. Что ж, придётся посетить. Тем более, что вам, Чеков, это будет крайне занятно.
Гудрон, верный своему слову, лишь моргнул в ответ.
Третьим пунктом у пегасцев стояло обсуждение поездки в сияющий град на Неве, которая, при благоприятных обстоятельствах, состоится в следующем (нужно же насшибать денег на проезд и проживание все оравы) году. Но это так мало интересовало наших героев, что они гуськом покинули собрание, провожаемые неодобрительными взглядами оставшихся литераторов. Первым из аудитории вышел Чеков и тотчас замаршировал к выходу из здания. На улице выругался, вдохнул морозный воздух, щёлкнул зажигалкой и с наслаждением затянулся:
– Как вы там сидите? Дышать же невозможно! Кислороду не хватает.
В ответ Зигфрид, вышедший следом за Чековым, произнёс:
– Мужайтесь, Гудрон, литература – занятие не самое лёгкое и точно не самое приятное, иной раз даже опасное. Если это, конечно, настоящая литература, – поправился детский писатель. – А духота – атрибут любого литературного сообщества. Привыкайте.
Подошли дамы. Наши герои встали кружком. Конотоп продолжил:
– Несветаева показала мне ваши робкие попытки писать. Небесталанно, конечно, в этом спешу вас поздравить. Но после прочтения у меня к вам, дорогой друг, появились вопросы: почему так робко и почему только попытки? Ответьте на них самому себе – и из вас получится толковый автор. Уж поверьте мне.
Чеков попытался что-то сказать, хватанул воздуху, но уловив что-то новое во взгляде Конотопа, понятливо попрощался:
– Остальное на лекции, верно, Зигфрид?
– Остальное – в дружеской беседе, – мягко поправил Чекова детский писатель.
Импровизированный кружок литературных революционеров (или реакционеров? – заспорили авторы, но быстро запутались в левых и правых, плюнули, да и пошли разрешить спор к подкованной в литературном плане бабе Юле) распался, все засобирались по домам, условившись о встрече, дату и место которой, как известно, изменить нельзя.
Глава 12. (НЕ) СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ
Почувствовав себя участницей тайного кружка, Танюша мысленно вернулась к событиям минувшей осени, вспомнила, каким было первое знакомство с её взрослыми соратниками.
…Отработав смену, Веретенникова принарядилась и направилась к верхне-захолустинскому Дому Культуры, весь второй этаж которого арендовали пегасцы.
Первым встреченным ей литошником («Провидение не спит!» – торжественно заметили принявшие с утра и потому пафосные авторы) оказался детский писатель Конотоп.
В вестибюле к девушке сразу подошёл Зигфрид, коротко отрекомендовался и предложил Веретенниковой быть её проводником в адище местной литературы со всей томившейся в нём пишущей братией. Танюша засомневалась, правильно ли будет принять предложение случайного знакомого, но наружность писателя располагала довериться ему: седые виски, открытый взгляд, никакой развязности, одет солидно, без петушиной яркости. Заметив, что девушка колеблется, Конотоп произнёс, что любые встречи отнюдь не случайны, а эта – в особенности, и именно её, начинающую поэтессу Веретенникову, он и поджидал весь этот погожий сентябрьский вечер.
И Танюша поверила собеседнику – не только в этом, но и как бы на будущее, бесповоротно… Конотоп теперь виделся ей Дон Кихотом, но не свихнувшимся чудаком из-под пера Сервантеса, а тем добрым благородным идальго Алонсо Кихано, которого воплотил в кино Черкасов (пятижды сталинский лауреат, – не преминули тут же блеснуть авторы).
Меж тем Зигфрид предупредил легковерную девушку, что не стоит ей быть столь открытой и доверчивой, особенно в стенах данного учреждения:
– Танюша, вы, как и любой добрый человек, слишком много сомневаетесь в себе и слишком хорошо думаете о других.
– Никогда бы не подумала, что вера в людей может быть недостатком, – тихо произнесла уязвлённая проницательностью Зигфрида Веретенникова.
– Многие добродетели, увы, в наш переменчивый век пришлись не ко двору. Эмблему данного литературного объединения уже давно следует поменять – с крыльев благородного скакуна на более древний и соответствующий времени и устремлениям пегасцев символ – уроборос, гадину, пожирающую собственный хвост.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.