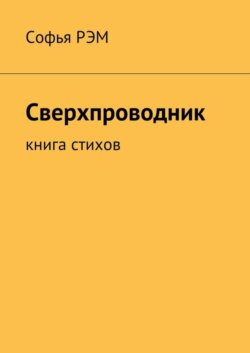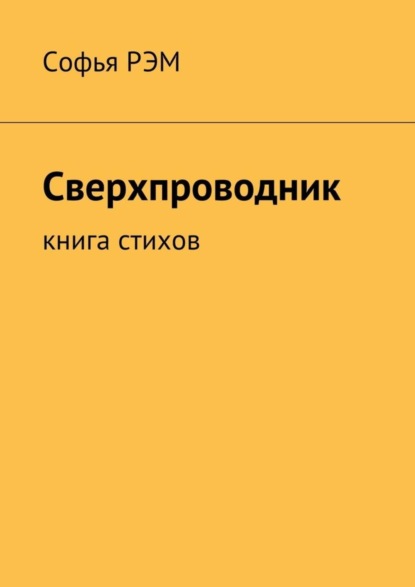Редактор Дмитрий Леонидович Лакербай
© Софья Рэм, 2017
ISBN 978-5-4485-1939-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
«Он видит всё. Не всё к тому готово…»
Не предисловие – скорее взвинченный пульс второго читателя (о первом умолчим). Ну надо же как-то упорядочить в голове эту вроде бы понятную, но куда-то неудержимо скачущую, мгновенно перелётывающую поэтическую оптику, словно поэт какая-то глазастая стрекоза, ловящая (дорисуем лаконичных японцев) над ручьём бытия переменчивые тени и абрисы нашей мимолётности. Нет, всё серьезно, даже слишком – третья книга поэта и художника Софьи РЭМ (вслед за «Сотворением Рима» и «Инверсумом») продолжает упрямое восхождение автора сквозь проживание-изживание всего на те кручи, откуда это всё как на ладони: «Бывают горные породы // Породистей собак и римлян. // Там, задыхаясь кислородом, // Я чувствовал себя всемирным – // А значит, чувствовал хоть что-то», – попутно «заточив своё всемирье» и жёстко ограничив масштаб лирического «я» («только искра на ладони»). Поэт не важен (в принципе). Что же важно?
…Стрекоза глазасто смеётся – никакого сюра, это витает сам метод, изящен, прост и многоуголен: «Я инопланетянин, но очень русский»; «Парадигма меняется. В наше время // Со скалы упавший – не значит лемминг, // Вверх башкой идущий – не значит Ньютон, // А прямоходящий – не точно Дарвин. // Посмотри: загадочен мир и путан». Путаница тоже мнимая, вернее – это вид по горизонтали. Чтобы увидеть, нужны как воздух иные ракурсы, всё-таки жизнь состоит не из одной плотной унавоженности работ-забот. О нет, почвы тут предостаточно, но шустрая стрекозка – ба-а-альшой спец по сравнительному масштабированию сделанного / упущенного во всем диапазоне доступного космоса: «У микробов огромен микропыт, // Но микрополь их равновелик. // Пассажир, зазевавшийся кесарь, // Продолжает зевать свой транзит…». Иногда почти издевается – натурфилософски: «Незамеченный, как вокзал, // Модильяни спрашивал у крота: // Не сама ли себе глаза // Совершенная простота? // Но, не видя его, не рвя // На куски, будто не приемля, // Переваривал крот червя, // Переваривающего землю».
Беглый пульс перемигивается со стрекозкой, пока «тягучая хрупкость блика» не вернёт на землю, где всё, увы, не только не вечно, но и вообще никому никаких гарантий. «Сок земли природен, но жизнь есть сон», и обойдённый вниманием культуры и цивилизации захудалый слонопредок (даман Брюса) мало кому интересен даже в зоопарке… «Мир – притон, даман, и на нём питон».
А как же универсальный безотказный спасатель, непобедимый человек-паук, – лю, которая бовь? «Одна любовь, гремя, достойна палиндрома» – но в целом не для всех утешительно: «моя любовь разрастётся так сильно, // Что уже не заметит объекта»; сплошной «Эпидемий, входящий в подъезд» без внятного выхода («В кино не идёт ни хрена, и мы вновь никуда не идём…») и в целом – «Кто съел всё поле на картине // И кто пожнёт его остатки?»; «Хорошая Беатриче – мёртвая Беатриче». Да ну её к бесу, эту любовь…
Как же тогда быть, если «и гора в своей породе – // Лишь только шахмата в просветах // Меж пальцев рук, и мы в природе – // Ряд чёрно-белых силуэтов, // Как клавиш на клавиатуре…»? Чем спасаться? И зачем? («Зачем нам хлеб, когда метафор и так полным полно? // Зачем идёт кудрявый пахарь и сыплется зерно? // Зачем нам разум, если разум в чудовищах так глух…». ) Поэт не учёный (хотя конкретно этот поэт весьма учёный), не проповедник (хотя конкретно этот поэт вполне верующий, что обязывает), его ответы логичны, но нелинейны, сам же он миру просто свойствен, атрибутивен, посему и деться, спрятаться некуда: «Голова ж подобна нагану, // Пока вдруг невыносимо // Не ощутит, калека, // Одиночество урагана, // Почувствовавшего свою силу // В сравнении с человеком». «Нас всех разглядывает небо из космоса в упор» – вот тебе и стрекозка. Долетались…
Однако атрибутивность поэта миру, изначальная вмешанность в дела бытия дает возможность, «низко наклонившись над колодцем, // В который отклонились облака», «внезапного» увидеть паука в его фантастической для обыденного взгляда связности с мирозданием: «Паук стоял, как наши под Москвою. // Вода стояла, будто у Кремля // В почётном карауле. Над собою // Я чувствовал движенье бытия». «Очень русский» и в самом деле слегка (а может, и не слегка) инопланетен повседневности, как герой поэмы, «удильщик рыбы» для кошек и сторож «водонапорной башни Кус-Кус», как были инопланетны Рубцов и Заболоцкий, Хлебников и Вознесенский… да мало ли кто! Родина однако – упорно глядящая из колодца с застывшим солнцем и облаками «Отечества судьба». И своя тоже, конечно: «Совам должно ухать на уху, // Ковыряя гласные в стиху, // И не нужно жить на берегу – // Я ведь так и так не убегу».
Настоящая инопланетность – это значимость вещей и явлений мироздания как таковых, вне сиюминутных (с т.з. вечности) «правил пользования» ими, та самая значимость, которая открывается нам ближе к смерти… Открывалась бы так поздно, если бы не поэты. «Кто в это время спит, как свойственно природе // Рефлекса, и во сне ускорит шаг. // Раз в десять лет в моём селе проходит // Собрание собак. // Четыре сотни лап ступают ровно, // Как существо одно, то вверх, то вниз, // Как будто водопад ползёт огромно // Сквозь смятый двор и сплющенный карниз».
В голосе настоящего поэта всегда больше звука, чем от земных, пусть даже облагороженных дрязг, – как будто бракосочетаются контрапунктом, проливаются друг в друга земное и небесное, соната и псалом. Это и есть главный источник «инопланетной», и поэтому очень земной и русской связности всего («Так дерево на фотографии // Напоминает об эпохе»). «Связанные вещи мира в величине земного шара» оборачиваются чем-то одновременно космическим и до боли знакомым: «А земляника – дед с корзинкой. // Декабрь. Кладбище. Сугробы. // Так замыкаются нелепо // Любые мысли в каждой фазе… // О как легко сулит нам небо // К земле стремящиеся связи! <…> Живёт кольца с велосипедом // Родство – и выхода не ищет… // Есть связь меня с травой, и с дедом, // И с деревом, и с пепелищем».
И тогда открывается главное… Но дальше, читатель, ты уж как-нибудь сам справишься.
Второй читатель
«Я инопланетянин, но очень русский…»
Я инопланетянин, но очень русский.
Когда идут дожди, мне бывает грустно,
Когда идут танки – немного двойственно.
Мне также свойственна драма поезда:
Нельзя свернуть, но уже кончаешься
Где-то сзади. Мелькают леса,
Сквозь них рентгеновски излучается
Моя свобода на полчаса.
Ещё когда не умели клонировать,
Моя планета разучилась планировать,
Моя планета от слова «нету»,
Как пишут вражеские газеты,
Но я не верю. Как всякий транспорт,
В своём изводе являясь тарелкой,
Я, пребывающий в полутрансе,
Транслирую миру Белку и Стрелку —
Мы всё ещё ими считаем время,
До и после, не опоздать бы к финалу.
Нашим часам просто нужно больше делений,
Потому что этому «нету» всё время мало
Нетто, брутто, вендетты Брута, выходов к морю…
Вся история инопланеты в два этажа —
На огромную ногу туфельку-инфузорию
Примеряет моя душа.
Пролог к инкунабуле
Трижды Божья коровка
«Парадигма меняется. Каплет время…»
Парадигма меняется. Каплет время,
Отмирая медленно в подоконник.
Отмеряя верность, шуршит покойник,
Будто космос льётся ему на темя.
Удивлённый кукольник-колокольник
Не поймёт, звонить ему или дёргать,
Проморгавший вечность снаружи морга
Вновь не удивлён. Да и что ж такого?
То, что в целом – лейбл, для кого-то – морда.
Падежи мертвы. Устарело слово.
Устарело падать. Верх гравитаций —
Избавлять движенье от агитаций,
От сует и мусора жизни разной.
Что есть не упасть? Не остаться праздным
В тишине и не сокращаться сердцем,
Удлинять. Мементо не лучше скерцо.
В стратосферу выйдя, парашютист,
Не держись себя – укрепляй свой разум.
Не наврать словами, раз видишь глазом:
Истов вест, но в плюсе, вестимо, ист.
Тишина – учитель начальных классов —
Отойдёт в архив повзрослевшим массам,
Но пока что «лужа», пока что «касса»
Ей ещё не царапает по ушам.
Не годны к слиянью портал и рапорт,
Но любое сиянье обязан схапать
Вопреки погоде забывший капать
Гражданин великого падежа.
Парадигма меняется. В наше время
Со скалы упавший – не значит лемминг,
Вверх башкой идущий – не значит Ньютон,
А прямоходящий – не точно Дарвин.
Посмотри: загадочен мир и путан.
Если столько падать – не хватит армий:
Удобрять полезно, но сеять надоть.
Здесь разбиться – блеск, но опасно падать.
Дирижабль заменит велосипед —
Смысл распредели вопреки прогрессу.
Скорость не имеет значенья, если
Нет конечной точки, предела нет.
Полюса болтаются в беспорядке.
Парадигма сменится. Принцип – вряд ли.
Ты, включая ноль, не равна нулю,
Бесконечность. Прыгнешь, но будет поздно,
И язык качнут не слова, а звёзды,
Возвращая к облаку и огню.
«Люди, родившись голыми, так обросли с веками…»
Люди, родившись голыми, так обросли с веками:
Разными языками строили, как руками,
Зло и добро мешая в прочном своём растворе,
Словно не на расстреле. Так появилось море.
То, что по-русски «мышонок», в Италии – «тополино»,
При переходе обратном являет собой древесину,
Склонную к небу, или ракеты, спорящей с твердью, —
Вечности дуновенье: силы или же смерти.
Разница стала разностью. Люди сделались мрачны.
Море хотелось выпить. Так появились мачты.
Море было идеей. Мачты были победой,
Прочно в небо глазея против всякого «недо».
И узнавал каждый юнга, ещё обучаясь в школе,
Что в людях мозгов не много, но в целом довольно крови
И красоты, и всё это вместе цвета брусники.
Это преувеличили. Так появились книги.
Мальчик, смотрящий в небо. Небо колышет море.
Море полно луною. Это не спутник – кнопка.
Что появится дальше, там, за тобой, страною,
Что появится следом? Жди. Осталось недолго.
«Над холмом проходит полдневный слон…»
Над холмом проходит полдневный слон.
Сок земли природен, но жизнь есть сон.
Даман Брюса, ближайший родич слона,
Слышит в норе, как болит страна:
В глубине ворочает соль, где, прах,
Я один не знал, что кишит в Кижах.
Я родился в недрах своей земли
Рассуждать о Брюсе, зачем он Ли,
Заходить за дверь с табличкой «Не та»
В очень плохо сочетающиеся цвета.
Ты один такой тут даман-дункан,
Нотр-Дам, бредущий в разломах стран,
На дыму оставленный истукан,
Посредине сцены забывший кан-
кан. В туман уйдя, не имей очков,
Всё равно найдёшь на пути слонов.
Даже крот, плевавший в источник вод,
Понимал, что чаще – наоборот,
Но обычай слаще красот, и вот
Забывает осень, зачем умрёт.
Ты умрёшь, даман. Победивший слон
На тебя поставит вопрос ребром —
Евой под крылом, где могильный ком
Под углом ежом вскочит. Что притом?
Мир – притон, даман, и на нём питон.
Что поделать с внутренним со кротом?
Он сокрыт в земле, он сократ холма,
Он один смолчит, что душа сильна.
Не зевай навзрыд, колыхая твердь.
Сон – кредит, который даёт нам смерть.
«Как, осень, нам чуждо чудо, когда водопад течёт…»
Как, осень, нам чуждо чудо, когда водопад течёт
С невечнозелёных в груды, где листья наперечёт,
Где пруд убегает тиной в поток облаков и в запах,
Пугает оскал утиный притекший к воде народ…
Пестреет в раскрытых лапах перчатка земной листвы.
Иной, возжелавший схапать, бежит по земле – увы,
Вода остаётся пресной, и блики листвы небесной
Несутся в пруду, как тени, вкусившие головы.
Прекрасны её ступени, запудренные навзрыд,
И время её мгновений скрывает полдневный стыд,
Как лодка неотвратимо, бликуя, течёт к канаве,
К обрыву, когда, вестимо, молчанье слышней, чем выд…
Ох, как нас роднит с тобою тягучая хрупкость блика,
Когда из клочка обоев впивается земляника
В лицо вековечным «аве», кровавым, как зонт-закат,
Как зонд, над границей яви несущийся наугад…
И вновь говорил в оправе скукоженный диверсант:
Пошли мне за это пламя хотя бы кровавый бант!
И молча молил о праве, и лодка неслась к канаве,
И думал быть чуждым славе,
Но Бог не щадил талант.
Как, осень, твои нападки на бренный асфальт мудры.
Как чужды твои оградки безмозглой траве весны!
Как сладки твои повадки, как кровь на мохнатой ватке,
Ясны и в сухом остатке содержат в себе миры…
Свет тесен, оправы жарки. Одежда недоодета.
Свята и неопалима, ты, осень – моя ступень.
Лишь только в пустынном парке дрожание силуэта.
Как бликом моим любима печальная эта тень…
Но что это весь рябит он, как рыба во льду разбитом?
Как затвердевает битум, глядишь – ты же смотришь в пруд!
И голову поднимаешь, но где силуэт? Убит он
К канаве идущей лодкой в молчаньи её минут.
Небесные листья парка… Собака несётся с палкой.
Как, осень, себя нам жалко растрачивать в перегной.
Застыв пред твоей победой,
несвойственный всяким «недо»,
Смотрю через свет. Ответом встаёт силуэт иной.
«Без сравнения с человеком…»
Без сравнения с человеком
Не бывает ни тли, ни Бога.
При встрече с одним Казбеком
Уже их кажется много.
Гора есть гора. Голова же, задравшаяся оголтело,
Знаменует собой всего лишь приступ аппендицита.
Искать в газетах заметки о смерти своего тела —
Обязанность человека, склонного к суициду
В стране, где ловушки века
Открыты к преображенью,
Чтоб отваряжить шрека
Одним неловким движением,
Пока что правосторонним
В неистовом левом марше,
Но, будучи посторонним,
Легко становишься старше
Любых коллизий Гомера и самого Гомера,
И если глаз – не химера,
То что же тогда химера?
Над книгой сидит учёный,
Ловушки его неловки.
Цветок колбасы копчёной
Процвёл в своей упаковке,
А ты не сиди с учёным
Ни видом, ни человеком,
Ведь, чувствуя обречённость,
Легко становишься шреком.
И греком, и ксом, и точка —
Сведённый к пределу космос,
Которого муха срочно
Вылепила из торса,
Когда ты цеплял занозу,
Вышаривая в паркете
Ту, что вопреки прогнозу
Пока что жива на свете.
Голова ж подобна нагану,
Пока вдруг невыносимо
Не ощутит, калека,
Одиночество урагана,
Почувствовавшего свою силу
В сравнении с человеком.
«Невозможно найти границы сна и покоя…»
Невозможно найти границы сна и покоя,
Сна и смерти, сна и его самого.
Как в маразм, впадаешь в немилость.
Но однажды приходит такое,
Чтобы ты всю жизнь спрашивал у него,
Зачем оно повторилось.
«Ночь в лесу – идиомы сплошные, и звёздных оград…»
Ночь в лесу – идиомы сплошные, и звёздных оград
Непреложны границы. Червив и черничен Чернигов.
Гриб, съедобный раз в жизни. Листок лёг на голову (фигов),
Но любой континент – документ тектонических сдвигов,
И ни шагу назад.
То, что видишь впотьмах, навсегда для зрачка незабвенно.
Мухоморы такие, что вряд ли нас любят в Польше, но
Скоро ты, последний поэт Вселенной,
Будешь жить на фоне чего-то большего.
Дорогой листопад! Лето съедено, как конфета.
С неба фантики сыплются манной. О, мани-мани!
Ведь любой континент – это временно. Даже это.
Всё проходит и проплывает, меняя грани.
Поменяется форма, присущая мухомору,
Поменяются контуры всех основных историй,
Но однажды поднимешь ветку и сдвинешь гору.
Вот рычаг, достойный римлянина на склоне.
Покров
Процессия струится к повороту.
Зима крадётся, наводя зевоту
На очередь с глазами вертолёта,
Несущегося рухнуть в магазин.
Всё слепит. Жало слепо – слепок жалок,
Сыр гипс. Бетон преследует мешалок,
И страдиварий мятых обветшалок
Грозит закрыться прежде, чем бензин
Сравнит с любовью в очереди скучной
Стоящий лирик возле бабки тучной.
Спеша купить консервы и морковь,
Потом с бензином он сравнит любовь…
Как радуга, текущая в ушатах,
Недужен свет его, не нужен запах,
Баллистика болит. В фонарных лапах
Уснули души их до Рождества.
Лишь гул витает финских-минских-клинских.
Для чистых чисто всё, сказал Аквинский.
Он связан был с водой, с неверьем свинским,
А сам был мудр. И в вечер этот свят
На миг любой, без сдачи давший. Мают
Пакеты-майки. Кассы отцветают,
И чистый снег последних заметает,
Что в очереди первыми стоят.