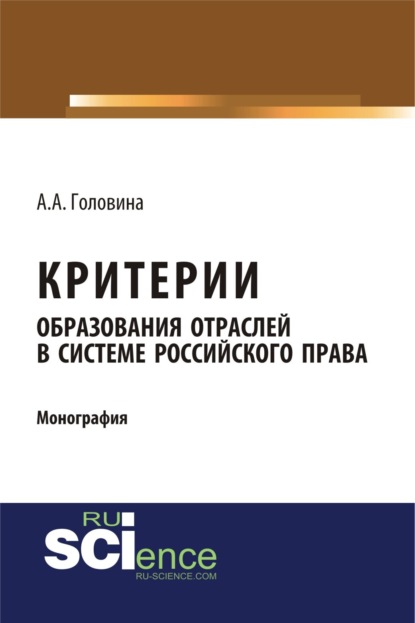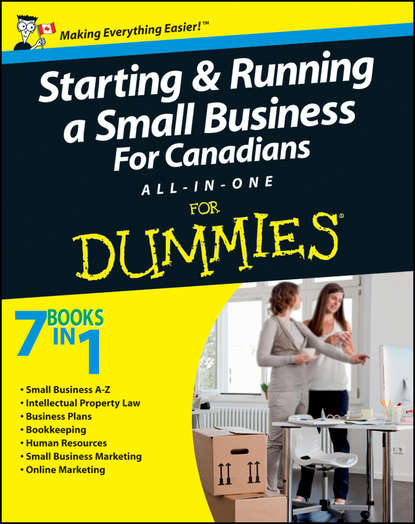Где Кричат Угольки

- -
- 100%
- +

Кто сеет ветер несправедливости,
Пожнет бурю, что длится вечность.
И пламя, им раздутое однажды,
Ответит им неугасимым светом.
– Из трактата "О вечных огнях"
"Они не мстили. Они просто смотрели…"
Тишина над поляной была не просто отсутствием звука. Она была густой, тяжелой, как пропитанное влагой сукно. Далекий вой ветра в кронах вековых сосен лишь подчеркивал эту давящую немоту, словно лес затаил дыхание. Воздух, пахнувший хвоей и вечерней сыростью, внезапно потяжелел, обволакивая лагерь невидимой, ледяной пеленой. Костер, только что весело потрескивавший, вздрогнул. Языки пламени прижались к поленьям, окрасившись в тревожный, багровый оттенок, а дым, вместо того чтобы виться столбом вверх, расползся низким, цепким туманом, окутывая ноги сидящих.
Илья сидел, отгородившись от внезапного холода воротником куртки. Его лицо, освещенное снизу притихшим, будто насторожившимся огнем, казалось вырезанным из темного дерева – резким, незнакомо суровым. Он не смотрел на друзей. Его взгляд был прикован к черной стене леса, где стволы, сливаясь, образовывали арку в абсолютную тьму. В этой тьме чудилось движение – не ветра, а чего-то иного. Тени за спинами внезапно вытянулись, стали живыми и недобрыми.
– Знаете, – его голос разрезал тишину, звуча неестественно громко и приглушенно одновременно, – сидим мы тут… Греемся. Смеемся. Жуем зефир… – Он сделал паузу, столь долгую, что Настя невольно поежилась, а Дима перестал вертеть в руках палку. – А место это… Оно помнит.
Слово "помнит" повисло в воздухе, как проклятие. Оно не было поэтической метафорой. Оно звучало как констатация жуткого факта. Илья медленно повернул голову, и свет костра, дрогнув, заполз в глубины его глаз. В них не было обычной иронии или бахвальства рассказчика. Была тяжесть. И что-то еще… Знание? Предостережение?
– Помнит крики, – продолжил он, почти шепотом, но каждый слог падал на поляну с леденящей четкостью. – Не звериные. Человеческие. Предсмертные. Помнит самый темный век… Пятнадцатый. – Он ткнул палкой в землю у самого края кострища. Звук удара о камень прозвучал неожиданно громко. – Прямо здесь. Под нами. Где мы спальники разложили…
Он замолчал снова, дав ужасу места проникнуть в сознание. Ветер стих окончательно. Даже треск костра замер. Казалось, сама земля под ними прислушивается. А из черной арки леса, от туда куда только что смотрел Илья, донесся едва уловимый звук. Не шелест. Не скрип. Скорее… вздох? Глубокий, полный невыразимой скорби.
– Пятерых женщин… – голос Ильи стал жестче, металлическим. – Не старух. Молодых. Как вы. Как я… Сожгли заживо. На костре. Обвинили в том, чего они не совершали. Назвали… – Он произнес слово не сразу, будто оно обжигало губы. – Ведьмами.
Он поднял глаза, и его взгляд пронзил каждого, сидящего у огня. В нем не было вопроса, был приговор. Приговор их неведению, их легкомыслию на этой земле.
– Их последний стон, говорят, врос в корни этих сосен. Их пепел… он все еще здесь. – Он провел рукой над чуть тлевшими углями костра.
Он замолчал. В его паузе слышалось шипение углей, но теперь оно казалось зовом. Зовом из глубин времени. Зовом тех, чей ужасный конец начался с чего-то незначительного… с чего-то, что случилось именно здесь, на этой поляне, под этим же холодным, равнодушным небом, несколько сотен лет назад. И тьма за спинами, казалось, сгустилась, готовая шагнуть в круг света и напомнить всем, что прошлое не похоронено. Оно дышит. И оно помнит каждую деталь. Начиная с…
Деревня Валаки, 1480-е годы. Раннее утро.
Туман, словно седое покрывало мертвеца, цеплялся за соломенные крыши Валаки. Воздух был влажен и тяжел, пропитан запахом сырой земли и дыма, осевшим в этих местах. В одной из хат, стоявшей чуть в стороне от кучки других домов, на краю темного леса, проснулась Ольга.
Лучи рассвета, бледные и робкие, едва пробивались сквозь запотевшее оконце, выхватывая из полумрака убогую обстановку: грубо сколоченный стол, лавку, печь-каменку, да икону в красном углу, темный лик которой казался особенно суровым в утренней мгле. Ольга, молодая еще, но с тенью ранней усталости в глазах, перекрестилась. Ее каждодневный ритуал начинался с молитвы. Неспешной, тихой, шепотом, словно она боялась потревожить не только соседей, но и саму тишину, нависшую над деревней. Она молилась за упокой души раба божия Андрея, мужа своего, сгинувшего три зимы назад в лесу – то ли зверь задрал, то ли лихой человек встретился, неведомо. Молилась за здравие односельчан, хоть и сторонились они ее порою. Молилась о мире для своей души, вечно мятущейся в одиночестве.
«Господи, помилуй и спаси…» – шелестели ее губы, а пальцы сжимали нательный крест, холодный от ночи.
Жила Ольга одна. Хата Андреева стала ее не утешением, а скорее напоминанием о потере и тяжкой доле вдовы. Молодость и красота – коса густая, как спелая рожь, лицо с высокими скулами и ясным взором – были здесь не благословением, а обузой. В деревне, где каждый на виду, где страх перед нечистым и гневом Божьим витал плотнее утреннего тумана, ее независимость и тихая печаль вызывали не жалость, а настороженность. «Даром что красавица, – шептались бабы у колодца, – да глаза у ней не наши, глубокие, знать многое видели… И живет одна, как сова лесная. Неспроста это».
Помолившись, Ольга принялась за хлопоты. Растопила печь, чтобы прогреть промозглый воздух. Вымела сор из избы тонким прутом веника – каждый уголок, каждую щель, будто выметала не только пыль, но и тени прошлого. Надела серый, домотканый сарафан, подпоясалась скромным пояском. Потом вышла во двор, к колодцу-журавлю. Скрип его оглушительно рвал утреннюю тишину. Она набрала студеной воды в ведро, и ее пальцы мгновенно заледенели. Постояла мгновение, глядя на деревню, начинавшую просыпаться: из труб потянулись первые струйки дыма, кто-то вел коров на выгул, залаяла собака. Но взгляд Ольги невольно скользнул к опушке леса, темной и непроницаемой. Туда, где не стало Андрея. Туда, откуда, по слухам, в прошлую полную луну выходило что-то с глазами, как угли… Она резко отдернула взгляд, почувствовав знакомый холодок страха под сердцем. Суеверия цеплялись к Валакам, как репей.
Вернувшись в избу, она поставила вариться горшок с крупой на угли. Села у окна, взяла в руки веретено и кудель льна. Тонкие, ловкие пальцы привычно вытягивали нить. Монотонное жужжание веретена должно было успокаивать, но сегодня тревога не отступала. Как будто сам воздух был пропитан ожиданием беды. Может, от вчерашнего разговора с попадьей? Та, встретив ее у церкви, не глядя в глаза, пробормотала что-то о «нечистоте в мыслях» и «одиночестве, что дьяволу на руку». Или от взгляда Марфы, соседки, завистливой и злой? Та смотрела на Ольгу вчера так, будто видела не женщину, а гадюку на пороге.
Ольга вздрогнула. Веретено выскользнуло из рук и с глухим стуком упало на пол, покатившись в самый темный угол. Дурная примета. Сердце ее бешено заколотилось. Она поднялась, чтобы поднять его, но вдруг замерла. До слуха донесся звук – не скрип телеги и не мычание коровы. Это был приглушенный, но отчетливый плач. Детский плач. Шел он… казалось, откуда-то из-за стены, со стороны леса. Но там же ничего не было, кроме старого покосившегося забора да густого ельника!
Ольга прижала ладонь ко рту. Глаза расширились от ужаса. Она знала эти страшные бабьи сказки про лесных детишек, про мавок, что плачут, заманивая добрых людей на погибель. Знать нечисть близко? Или… Господи, помилуй! Или это знак? Знак того, что на нее уже обратили внимание ТЕ СИЛЫ, о которых шепчутся в деревне по вечерам?
Она не решалась пошевелиться, впиваясь взглядом в запотевшее стекло, за которым клубился все тот же непроглядный туман. Плач стих так же внезапно, как и начался, оставив после себя звенящую, гнетущую тишину, куда громче любого шума. Крупная дрожь пробежала по ее телу. Утренние хлопоты вдруг показались пустой суетой перед лицом нависшей тьмы.
В этот миг на улице раздались грубые голоса и тяжелые шаги. Не один человек. Шли целенаправленно. К ее избе. Сердце Ольги упало, превратившись в ледяной ком. Пальцы инстинктивно сжали нательный крест так, что костяшки побелели. Тревога, витавшая в воздухе, внезапно обрела форму и направление.
Тяжелые шаги заглушили тиканье ее сердца в ушах. Дверь, не запертая с утра – кто в деревне запирается? – с грохотом распахнулась, впуская не свет, а сгусток мрака и чужих силуэтов. Ольга только успела вскочить, роняя веретено во второй раз, ее крик «Кто там?» застрял в горле. Она не разглядела лиц – лишь грубые зипуны, заскорузлые руки, топоры на поясах. Ни слова. Ни угрозы. Ни объяснения.
Только стремительный взмах. Что-то тяжелое и тупое со свистом рассекло воздух и обрушилось ей на висок.
Мир взорвался болью и ярко-белым светом, который мгновенно поглотила чернота.
Холод. Пронизывающий, костный холод, пробирающий сквозь тонкую холщовую рубаху. И тряска. Ольга стонала, пытаясь открыть глаза. Веки слиплись, голова раскалывалась, будто внутри колотили кувалдой. В виске пульсировала огненная звезда боли, отдавая в зубы. Ее вырвало – горькой желчью и страхом – прямо на грязные доски под ней.
Она попыталась пошевелиться, но тело не слушалось. Только тогда она ощутила преграду. Не стены избы, а… прутья? Толстые, грубо отесанные жерди, вмороженные инеем. Она лежала не на полу, а на движущейся, скрипящей повозке, запертая… в клетке.
Сознание прояснялось сквозь туман боли и тошноты. Паника, острая и дикая, впилась когтями в горло. Она втянула воздух, чтобы закричать, но рядом раздался сдавленный всхлип.
Ольга повернула голову, преодолевая мучительный спазм в шее. В слабом свете угасающего дня или, может, рассвета – она потеряла счет времени – она увидела их. Четыре фигуры, сжавшиеся в углах такой же клетки, прижатые друг к другу. Женские фигуры. Молодые, не старше ее. Знакомые лица из Валаков и, кажется, соседней деревушки. Матрена, дочь кузнеца, всегда такая бойкая, теперь съежившаяся, как птенец. Степанида, тихая сиротка, что помогала по хозяйству попадье, ее лицо было мокрым от слез. Аграфена и Палага – Ольга знала их в лицо, но близко не общалась. У всех – одинаковый ужас в широко раскрытых глазах, синяки, рваная одежда. У одной на щеке темнела запекшаяся кровь.
– Где… где мы? – прошептала Ольга, ее голос был хриплым и чужим. Язык казался ватным. – Что… что случилось?
Матрена только глубже вжалась в угол, закрыв лицо руками. Степанида забилась в истерической дрожи. Аграфена уставилась куда-то вдаль, за прутья, ее взгляд был пустым, невидящим. Палага, самая старшая из них, лет тридцати, с потрескавшимися губами и глубокими тенями под глазами, медленно покачала головой.
– Не знаем … – ее голос дрожал, но в нем была тень попытки собраться. – Ничего не знаем… Пришли… как к тебе… Без слов… Били… Одежду рвали… Вязали… Потом в эти клетки… – Она кивнула на соседнюю повозку, едва видную в предрассветных сумерках. Там тоже темнели фигуры за прутьями. – Везут… Куда? За что? Не ведают…
Холод внутри Ольги стал глубже физического. Он проник в кости, в душу. Беспричинность, внезапность насилия – это было страшнее любой угрозы. Их схватили, как скот на убой. Без суда. Без вопросов. Просто… взяли. Заперли.
Повозка скрипела, подпрыгивая на колеях замерзшей дороги. Лес по сторонам был черной, безмолвной стеной. Воздух звенел от мороза и немого ужаса пяти женщин, запертых в клетке. Ольга прижала ладонь к раскалывающемуся виску, чувствуя липкую корку запекшейся крови. Молитвы, которые она шептала утром, казались теперь насмешкой. Господи, помилуй? Кто теперь смилуется над ними?
Впереди, сквозь морозную дымку, начали вырисовываться очертания не деревни. Что-то большее. Частокол? Башни? И до них донесся новый звук. Сперва глухой, как шум моря, но нарастающий. Гул. Гул множества голосов. Злой, нетерпеливый, голодный гул толпы. Он вибрировал в холодном воздухе, предвещая нечто неизмеримо более страшное, чем удар дубиной и клетка.
Ольга вжалась в гнилые дощатые стенки клетки, впервые отчетливо поняв: это конец. И начало чего-то невообразимо кошмарного.
Повозка, скрипя и подпрыгивая на камнях мостовой, выехала из тесного переулка. Морозный воздух ударил в лицо Ольге, смешиваясь с воем ветра и тем зловещим гулом, который теперь превратился в оглушительный рев. Она приподнялась, цепляясь за ледяные прутья клетки, и ее сердце, уже бешено колотившееся от страха, на мгновение остановилось.
Волковыеск.
Знакомые очертания высокой колокольни Спасской церкви, вонзившейся в серое, низкое небо. Кривые, почерневшие от времени купеческие дома с глухими ставнями – те самые, мимо которых она когда-то шла, держась за руку Андрея, смеясь, глядя на ярмарку… Теперь ставни были плотно закрыты, словно город зажмурился, не желая видеть того, что происходило на его главной площади. А площадь… Огромная, вымощенная булыжником, теперь была запружена людьми. Море зипунов, тулупов, платков. Лица, искаженные не то праведным гневом, не то диким, пьянящим страхом и любопытством. И этот рев… Он был физически ощутим, как удар волны.
– Ольга… – хрипло прошептала Палага, тоже вцепившись в прутья, ее пальцы побелели. – Господи помилуй… Это же Волковыеск… Площадь Судная…
Именно сюда, под сень той самой колокольни, свозили преступников. Сюда выходил судья оглашать приговоры. Но сейчас… Сейчас в центре площади Ольга увидела не эшафот. Она увидела костры. Не один, а несколько. Сложенные из толстых, почерневших от смолы бревен, аккуратные, как жуткие гигантские гнезда. Рядом валялись вороха хвороста. Запах смолы и сырого дерева смешивался с кисловатым духом толпы и чем-то еще… от чего сводило желудок – запах паленой шерсти, кожи… человеческого? От предыдущих "очищений"?
– Нет! – Резкий, пронзительный, как ледяная игла, крик Степаниды разорвал воздух внутри клетки. Девушка вскочила, трясясь всем телом, ее глаза, огромные от ужаса, метались по клетке, по прутьям, по виднеющимся кострам. – Нет-нет-нет! Я знаю! Я слышала! Бабка Дарья в деревне говорила! Это нас! Нас сожгут! Сожгут заживо! Ведьмами считают! ВСЕХ!
Ее слова ударили по остальным с силой дубины. Матрена завыла, забилась головой о прутья. Аграфена, до этого казавшаяся окаменевшей, вдруг зарыдала глухо, безнадежно, уткнувшись лицом в колени. Палага попыталась схватить Степаниду за плечи, зажать ей рот, но та вырвалась, продолжая кричать, обращаясь уже к толпе, невидимой за стеной клетки:
– Не ведьмы мы! Нееет! Ошибка! Матушка! Папа! Помогите! ОШИБКААА!
Ее вопль потонул в реве толпы. Кто-то за оградой услышал. Раздался грубый хохот, затем свист, а потом – первый камень. Он со звоном ударил по прутьям клетки рядом с головой Ольги, отскочив осколками мерзлой грязи. За ним полетел второй, третий. Гул толпы превратился в яростный, кровожадный рев:
"Ведьмы! Сжечь нечисть! В пепел!"
"Погубили урожай! Навели мор!"
"С корнем зло вырвать!"
Ольга не кричала. Она прижалась спиной к холодным прутьям, глядя на безумие Степаниды, на рыдания других, на летящие камни. Ледяные пальцы паники сжали ее горло. Степанида была права. Это была площадь казней. Эти костры – для них. "Ведьмы". Слово, которое раньше было лишь страшной сказкой у печки, теперь обрело плоть и кровь – их плоть, их кровь.
Ошибка? Мысль пронзила мозг, острее боли в виске. Да, конечно, ошибка! Она же просто молилась, мела избу, кашу варила! Они все просто… жили! Но этот рев, эти камни, эти костры – они были абсолютно реальны. Абсолютно неопровержимы. В глазах этой беснующейся толпы они УЖЕ не люди. Они – воплощение зла, козлы отпущения за все беды: за падеж скота, за гнилой хлеб, за мертворожденных детей, за страх, живущий в каждом темном углу. Ошибка не имела значения. Ее уже не исправить. Логика страха и ненависти не оставляла места для сомнений.
Повозка резко остановилась. Гул толпы стал оглушительным, давящим. Ольга видела, как к соседней клетке подходят грубые мужские руки с топорами.
Она закрыла глаза. Вместо молитвы в голове пронеслось: "Андрей… прости… Я иду к тебе… Но как… как так…" И тут же – дикий, животный страх перед болью, перед огнем, перед публичной агонией. Страх, от которого темнело в глазах, и хотелось кричать, как Степанида, до хрипоты, до потери сознания.
Но она молчала. Лишь ее пальцы, спрятанные в складках рваной рубахи, судорожно искали нательный крестик. Его там не было. Сорвали. Отняли. Как и надежду. Остались только страх, холод и запах смолы от сложенных неподалеку костров, ждущих своего часа.
Скрип клеточной двери прозвучал как скрежет открывающейся могилы. Грубые, заскорузлые руки ввалились внутрь, не разбирая, кто первая, кто последняя. Хватка была железной, бесчеловечной. Ольгу схватили за волосы – густые, некогда ее гордость – и рывком потащили к выходу. Боль пронзила кожу головы, смешавшись с криками других женщин, которых точно так же выдергивали из относительной защищенности клетки.
– Вон их! Выводи нечисть! – ревел чей-то пьяный голос из толпы.
Ольга попыталась уцепиться ногами за порог клетки, инстинктивно сопротивляясь, но удар подошвой тяжелого сапога в голень заставил ее вскрикнуть от острой, ослепляющей боли. Кость треснула? Она не успела понять – следующее движение вышвырнуло ее, как мешок с отрубями, на замерзший, неровный булыжник площади. Удар локтем о камень отозвался огненной вспышкой по всей руке. Воздух вырвался из легких со стоном.
Рядом рухнула Степанида, ее тонкое тело безжизненно шлепнулось на камни. Матрену выкинули так, что она ударилась лицом, мгновенно разбив нос. Кровь алым веером брызнула на серый лед. Аграфена упала на колени, пытаясь прикрыться руками. Палагу сбили с ног ударом дубины по спине, прежде чем она успела выпрямиться.
Но это было только начало. Толпа, как единое, дышащее ненавистью чудовище, сомкнулась вокруг них теснее. Камни, гнилые овощи, комья мерзлой земли и навоза полетели градом. Ольга пригнулась, прикрывая голову руками. Тяжелый булыжник ударил ее по плечу – тупой, сокрушающий удар, от которого потемнело в глазах. Другой камень чиркнул по виску, рядом с еще кровоточащей раной, посыпав искрами боли.
– Ведьма проклятая! Мор навела! – визжала женская фигура в толпе, швыряя гнилую репу.
– Сожрала младенца! – орал мужик, пуская слюни от ярости.
– Раздень их! Пусть все видят, как дьявол отметил свое отродье!
Призыв был подхвачен. К женщинам бросились не только стражники, но и остервенелые мужики и даже бабы из толпы. Руки, когтистые и сильные, впились в их и без того рваную одежду. Ткань – холстина, шерсть – рвалась с противным, сухим треском, словно паутина. Холодный ветер Волковыеска, пропитанный запахом смолы, человеческого пота и экскрементов, обжег обнаженную кожу как раскаленным железом. Ольга почувствовала, как ее одежду рвут со спины. Льняная рубаха не устояла – ее стащили через голову, скрутив руки, почти вывихнув плечо. Грубая рука скользнула по ее груди, не в ласке, а в оскверняющем, исследующем жесте, ищущем "дьявольскую отметину". Смех, похабный и громкий, раздался рядом.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.