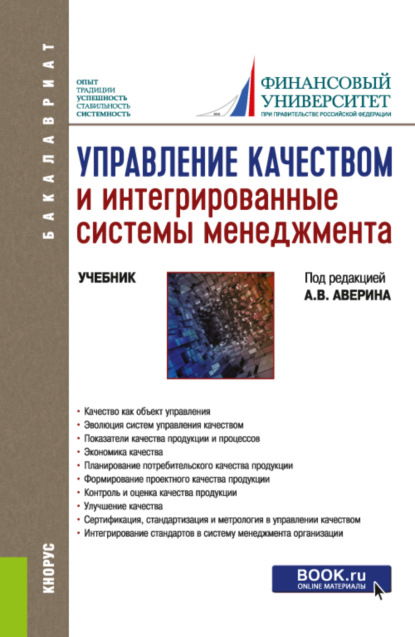- -
- 100%
- +
Эоган вышел из архива. Его шаги по коридорам Канцелярии были бесшумны, но в них появилась новая, хищная целеустремлённость. Он больше не следовал за запахом. Он шёл к его источнику.
Он проходил мимо открытых дверей, за которыми клерки, сгорбленные над светящимися экранами, вводили данные. Они были серой, безликой массой, частью механизма. Один из них, ничем не примечательный мужчина в простой серой робе, на секунду поднял голову. Их взгляды встретились.
И Эоган увидел.
Не страх. Не вину. В глазах клерка вспыхнул на мгновение огонёк – не ярости, а превосходства. Тот самый взгляд мелкого чиновника, который знает, что он обвёл вокруг пальца всю систему. Он тут же опустил глаза, снова став невидимым. Но Эоган уже всё понял.
Он не стал его останавливать. Арест здесь, в священных стенах Канцелярии, был бы слишком милостив. Это требовало иного подхода. Более личного.
Эоган прошел мимо, не замедляя шага. Он вышел на улицу, в объятия вечного тумана. Он знал, что Канцелярист наблюдает за ним через тысячи глаз системы. Пусть наблюдает. Пусть думает, что ушёл от возмездия.
Эоган свернул в тёмный, безлюдный переулок, где туман был особенно густ. Он достал свою подвеску и сжал её в кулаке. Он не вызывал глаза на стенах. Он посылал иной сигнал – тихий, неотслеживаемый, предназначенный только для одного существа в этом городе.
Он ждал. Несколько минут, которые показались вечностью. И тогда из тени, бесшумной поступью, вышел чёрный кот с неоновыми глазами. На этот раз в его взгляде не было простого признания. Было понимание задачи.
Эоган медленно кивнул.
Охота перешла в свою заключительную фазу. Фазу засады.
Глава 3. ПУСТОТА, КОТОРАЯ ЗЕРКАЛИТ
Туман в переулке был не просто густым – он был плотным, как вата, поглощающая звук и свет. Эоган стоял неподвижно, став частью пейзажа, ещё одной тенью в бесконечной галерее теней Линн-Кора. Рядом, свернувшись в тёмный клубок с двумя неоновыми точками-глазами, сидел кот. Более крупный, с шерстью, на которой алебастровые разводы складывались в узор, напоминающий карту забытых мест. Его светящийся взгляд, как и взгляд детектива, был устремлён на тускло освещённый вход в Канцелярию Вечной Петиции. Охотничий инстинкт был единственным языком, не требующим перевода.
Эоган не глядя опустил руку, коснувшись пальцами холки кота. Тот ответил короткой, глубокой вибрацией – мурлыканием, похожим на отдалённый гул работающего механизма. Ритуал был соблюдён. Союз заключён.
Он не забрал клерка сразу не потому, что боялся или сомневался. В этом был холодный, безжалостный расчёт. Схватить его в Канцелярии – значит вступить в бесконечную полемику с системой, в бюрократическую войну, где у того нашлись бы покровители, оправдания, лазейки. Это дало бы время предупредить настоящего архитектора этого беспорядка – того самого Узурпатора, чьё присутствие Эоган чувствовал за спиной этого мелкого сошки, как давление чумного воздуха.
Здесь же, в гниющем чреве города, действовали иные законы. Законы, которые Эоган понимал куда лучше, чем параграфы канцелярских уложений. Здесь не было свидетелей, кроме вечных – тумана, плоть-камня и безмолвных стражей с неоновыми глазами.
Его пальцы сжимали «лунную подвеску», ощущая её тихий резонанс, связывающий его с невидимой сетью этого мира. Он видел их не глазами, а тем самым внутренним зрением, что проецировало очи на стены. Тончайшие, невидимые нити его дара уже тянулись от него, ощупывая энергетический контур Канцелярии, выискивая брешь, сотворённую наглым клерком. Он не читал мысли. Он читал закономерности. Малейшие искажения в потоке данных, всплески гордыни, исходящие из отдела Оцифровки – всё это было для него ярче любого сигнального огня.
«Он думает, что невидим, – мысленно констатировал Эоган, и его губы чуть дрогнули в подобии улыбки, лишённой тепла. – Он думает, что, притаившись в сером потоке данных, он в безопасности. Что система защитит его.»
Воздух вокруг сгустился, зарядился статикой. Стены переулка зашевелились. Из влажного камня проступили десятки пар неоновых глаз. Они смотрели не на Эогана. Они смотрели сквозь него, в одну точку на другом конце города, прямо на дрожащего от самодовольства человека перед мерцающим экраном.
«Но он забыл одну вещь, – мысленный голос Эогана был спокоен и страшен своей уверенностью. – Я – не система. Я – тот, кого система породила, чтобы находить таких, как он. И моя стая… уже смотрит на добычу.»
Он мысленно отдал приказ, не произнеся ни звука. Глаза на стенах сузились, их свет приобрёл интенсивный, почти яростный оттенок. Они не просто видели. Они фиксировали. Они становились живыми камерами наблюдения, чей объектив был направлен на единственную цель.
Кот у его ног напрягся, готовый к броску, которого, Эоган знал, не последует. Его роль была иной – быть якорем, стабилизатором, живым проводником, чья уникальная связь с аномалиями города позволяла Эогану тоньше настраивать свой дар, не давая ему разорвать собственное сознание.
Всё было готово. Ловушка захлопывалась, не оставляя жертве ни малейшего шанса на спасение или предупреждение хозяина. Оставалось лишь ждать, когда тот, возомнивший себя хищником, сам выйдет из своего улья, чувствуя себя в полной безопасности.
И Эоган был готов ждать. У него было всё время в мире. Вернее, всё время, что оставалось этому миру.
Ожидание длилось ровно столько, сколько требовалось. Ни секундой меньше, ни секундой больше. Смена серых каторжников мысли в Канцелярии была предсказуема, как движение ржавых шестерен. И вот он – серый человечек в серой робе, с пустым лицом, на котором, однако, читалась странная усталость, не физическая, а экзистенциальная. Он вышел, огляделся с привычной осторожностью и зашагал прочь от опостылевших стен, даже не подозревая, что его одиночество уже разделяют.
Эоган двинулся за ним, его шаги бесшумно сливались с шорохом тумана. Кот шёл параллельным маршрутом, мелькая в просветах между руинами. А в самых тёмных подворотнях, в щелях старых стен, застыли белые фарфоровые фигуры. Марионетки. Их стеклянные глаза без выражения следили за шествием. Они не вмешивались. Они наблюдали. Собирали данные для своей Владычицы, чьё внимание, словно радар, было направлено на любое сильное эмоциональное колебание в городе. А Эоган, идущий на охоту, был таким колебанием.
Клерк, чьё имя стёрлось даже из его собственной памяти, свернул в безлюдный тупик – короткий путь к его убогому убежищу. Он так и не научился главному правилу: в Линн-Коре не бывает коротких путей. Бывают только ловушки.
Он прошёл чуть дальше, и тут туман перед ним сгустился, образовав непроницаемую стену. Он обернулся – выход из тупика был закрыт такой же пеленой. Паника, острая и солёная, ударила ему в голову. И именно в этот момент из самой гущи мглы перед ним проступила высокая фигура в чёрном, с двумя седыми прядями, падающими на фарфоровое лицо.
– Ты, – выдохнул клерк, отступая к стене. – Я… я ничего не сделал.
Эоган не ответил. Он медленно обошёл его, изучая, как хищник изучает добычу перед укусом. Его чёрные глаза видели не человека, а симптом. Симптом болезни системы.
– Ты стирал дела из Архива, – голос Эогана был ровным, без обвинения, лишь с констатацией. – Мелкие нарушения. Ты давал им ускользнуть от правосудия. Почему?
– Я… не я… – запнулся клерк, его глаза бегали. – Приказы… я просто выполнял…
– Ложь, – отрезал Эоган. Он остановился прямо перед ним. – Приказы имеют источник. Иерархию. Ты действовал по собственной воле. Сначала понемногу. Потом – больше. Потом ты почувствовал вкус власти. Возможность вершить собственный, тихий суд. Решать, кто достоин наказания, а кто – прощения.
Клерк затряс головой, но во взгляде его читалось не только отрицание, но и странное, болезненное признание. Эоган видел это. Он видел разрыв.
– А потом к тебе пришли, – продолжил детектив, его голос приобрёл металлический оттенок. – Не человек. Не существо. Идея. Шепот. Он показал тебе, что твоя маленькая власть – ничто. И предложил настоящую. Стать частью чего-то большего. Исполнителем. Ты согласился.
– Нет! – крикнул клерк, но это был крик загнанного зверя, а не оправдание невиновного.
– Убийство в переулке было не твоей инициативой, – Эоган говорил, не обращая внимания на его вспышку. – Это был тест. Проверка на лояльность. И ты его прошёл. Потому что боишься его больше, чем меня. Потому что он забрал у тебя даже твой жалкий страх и оставил только пустоту, которую заполнил собой.
Под давлением этой безжалостной логики, вывернутой наизнанку, как перчатка, клерк сломался. Его тело обмякло, он прислонился к стене, и из его глотки вырвался не крик, а тихий, многослойный шёпот. Голоса. Десятки голосов, накладывающихся друг на друга.
«…Мир – это ошибка…»
«…Порядок – это иллюзия…»
«…Зачем соблюдать правила тюрьмы?..»
Это был не один человек. Это был хор. Симбионт. Служащий, чья собственная воля была стёрта до дна, став сосудом для коллективного, рассеянного по системе безумия.
Эоган смотрел на него без ненависти и без жалости. Он видел перед собой не злодея. Он видел первую раковую клетку. Симптом болезни, которая начинала разъедать Линн-Кор изнутри.
И тогда он понял весь ужас замысла Узурпатора. Это не война. Это энтропия. Медленное, неотвратимое разложение Закона через тысячи мелких, незначительных актов неповиновения, совершаемых анонимной массой таких же пустых сосудов.
– Ты видишь? – голос Симбионта снова стал единым, усталым. – Ты борешься с тенью. Ты можешь остановить меня. Но я – лишь одна нить. Разорви её – и сеть станет лишь крепче.
Эоган сделал шаг вперёд. В его движении не было ни гнева, ни ярости. Только холодная, безжалостная необходимость.
– Ты прав, – тихо сказал Эоган. – Я не могу уничтожить сеть. Но я могу удалить заражённый узел.
Он поднял «лунную подвеску». Сапфир не вспыхнул. Он начал поглощать свет вокруг, становясь чернее самой тьмы. Он не стал его арестовывать. Не стал устраивать суд. Судья Ингве был бы бесполезен – как судить саму болезнь?
Вместо этого Эоган обратился к своему истинному дару. К Пустоте, которая была его союзником и его проклятием.
Стены тупика не покрылись глазами. Они… исчезли. Не физически, но восприятие исказилось, поплыло. Клерк, тупик, туман – всё стало прозрачным, призрачным, ненастоящим. Единственной реальной вещью в этом внезапно распадающемся мире был Эоган и чернеющая подвеска в его руке.
Симбионт впервые проявил что-то, кроме усталости. Его глаза расширились, отражая нарастающую пустоту.
– Нет… – его голос снова расслоился, но теперь в нём слышалась настоящая, животная паника. – Это не… это не по правилам…
– Правил больше нет, – ответил Эоган. Его голос был ровным, абсолютно спокойным в эпицентре этого метафизического шторма. – Есть только последствие.
Он не наносил удара. Он не произносил заклинания. Он просто… разомкнул связь. Использовал подвеску как ключ, чтобы отсечь Симбионта от той чуждой сети коллективного безумия, что питала его, давала ему силу и лишала его последних остатков «я».
И без этой подпитки… не осталось ничего. Ни личности, ни воли, ни даже отчаяния. Тело Канцеляриста не упало. Оно медленно, как тающий воск, осело на мокрые камни, превращаясь в бледную, безвольную массу. Последний, чуждый голосок вырвался из его губ, прежде чем замолкнуть навсегда: «…свобода…»
Эоган опустил руку. Пространство тупика вернулось в своё обычное состояние. Давящая тишина вновь наполнилась отдалённым гулом города. На полу лежало пустое тело. Проблема была «решена».
Но Эоган стоял неподвижно, глядя в никуда. Он не чувствовал триумфа. Он чувствовал ледяную тяжесть в груди. Симбионт был прав. Он был лишь симптомом. Где-то в других отделах, в других зданиях, другие служащие, такие же усталые и отчаявшиеся, начинали слышать тот же хор. И один Зрячий не мог уследить за всеми.
Именно в этот момент он почувствовал на себе взгляд. Не кота – тот, сделав своё дело, уже растворился. И не глаз на стенах – те, исполнив свою роль, уже закрылись. Этот взгляд был иным. Полным безмолвного наблюдения и… чего-то ещё. Скорби? Понимания?
Он медленно повернул голову. В дальнем конце тупика, в самой густой тени, стояли две фарфоровые фигуры. Марионетки. Они не двигались, их стеклянные глаза были неподвижны, но он знал – они видели всё. Они были свидетелями. И они уже несли эту информацию своей Владычице.
Эоган не стал их прогонять. Не стал скрываться. Он встретился с ними взглядом – его чёрные, бездонные глаза с их безмолвными стеклянными шарами. Между ними состоялся диалог без слов. Они видели в нём не угрозу, а… инструмент. Возможно, союзника в их общей, безнадёжной войне с болью этого мира.
Затем марионетки так же бесшумно, как и появились, отступили в тень, растворившись в ней. Они выполнили свою задачу.
Эоган последний раз взглянул на пустое тело у своих ног, затем развернулся и зашагал прочь. Туман Линн-Кора снова принял его в свои объятия. Он был холодным, влажным и бесконечно одиноким. Он победил сегодня. Но он видел будущее, и это будущее было полным тихих, незримых войн, которые ему предстояло вести в одиночку.
Охота закончилась. Но война только начиналась. А в тени, за его спиной, оставался лишь вопрос, заданный безглазым ртом марионетки и безмолвным взглядом Плачущей Кукольницы: что он готов сделать, чтобы выиграть эту войну?
Глава 4. НЕЗВАНЫЕ СВИДЕТЕЛИ
Тишина после «стирания» Симбионта была обманчивой. Она не была покоем. Она была затишьем, густым и тягучим, как смола. Эоган шагал по переулку, и каждый его шаг отдавался в этой тишине гулким эхом, будто город прислушивался к нему. Воздух, пропитанный запахом гниющего металла и влажного камня, казалось, замерел в ожидании. Даже вездесущий шепот тумана стих, придавленный тяжестью только что свершившегося акта безжалостного порядка.
Именно в этой неестественной тишине его слух, отточенный годами в аду Линн-Кора, уловил аномалию.
Не гул, не скрежет. Тихий, многочисленный шорох. Будто по мокрому плоть-камню терлись десятки босых фарфоровых ступней. Звук был приглушенным, рассредоточенным, доносясь из переулков, с карнизов, из темных подворотен. Он был похож на шелест высохших листьев, если бы те могли двигаться с мертвенной, целенаправленной плавностью.
Эоган замер. Его пальцы непроизвольно сжали «Лунную подвеску». Логика молниеносно обрабатывала данные: не атака, не бегство. Приближение. Множественное. Неизвестный паттерн.
Из тени выплыла первая. Фарфоровая кукла с паутиной трещин на щеке и пустыми стеклянными глазами. За ней – вторая, третья. Они окружали его бесшумным, растущим хором. Их босые ноги не издавали ни звука. Одна из них, та самая с трещиной, сделала неестественно плавный шаг и потянулась к его блейзеру. Её движение было не агрессивным, а исследующим, будто она хотела понять текстуру ткани, ощутить её суть.
Эоган не отшатнулся. Его реакция была выверена и безжалостна в своей простоте. Мгновенное расстёгивание пуговиц, резкий сброс блейзера с плеч. Он оставил ткань в цепких фарфоровых пальцах, отступив на шаг.
В тот же миг стены вокруг него ожили. Плоть-камень зашевелился, и из его пор проступили десятки неоновых глаз. Они разомкнули веки и уставились на марионеток безразличным, всевидящим взглядом. Воздух загустел, наполнившись давлением этого безмолвного допроса.
И тогда из самой гущи тумана, словно материализуясь из самого страха, проявилась Она.
Плачущая Кукольница. Элея.
Её появление было не шагом, а проявлением, будто туман сгустился, обрёл плоть и душу. Высокая и хрупкая, она казалась живой скульптурой, высеченной из скорби. Её кожа была не просто белой, а фарфоровой, иссиня-бледной, и вся она была испещрена паутиной тончайших трещин, словно когда-то её разбили, а потом собрали воедино. Из этих трещин сочился тусклый, серебристый свет – свечение её внутренней, вечной боли.
Её лицо было удлинённым, утончённым, с чертами, застывшими в маске тихого отчаяния. Но главное – её глаза. Огромные, миндалевидные, цвета расплавленного серебра. В них не было ни зрачков, ни привычного белка – лишь мерцающая, жидкая металлическая гладь, и в их глубине стояла невыплаканная слеза, отражающая всё уродство мира. Эти глаза были настолько выразительными, что, казалось, вот-вот пророчат слово, но из её губ вырывался лишь беззвучный стон.
Её волосы. Длинные, струящиеся, они были не просто серебристыми. Это были живые волокна, тонкие, как паутина, постоянно находящиеся в лёгком, самостоятельном движении. Они колыхались вокруг неё, словно ощупывая воздух, и их переливы напоминали иней на стекле в лунную ночь. Казалось, каждый её волосок был антенной, улавливающей малейшие вибрации чужого горя.
Одета она была в лохмотья, но какие это были лохмотья! Это было платье-призрак, когда-то, быть может, бывшее роскошным, а ныне – многослойный саван из истончённого бархата цвета выцветшей черносливовой кости, полупрозрачного шифона пыльной луны и креповой ткани оттенка застывшего дыма. Края ткани были не просто рваными – они растворялись в нити, и эти нити серебристым туманом стелились по полу, смешиваясь с её волосами. На груди платья, там, где должно быть сердце, ткань проступала тем самым серебристым светом, что сочился из её трещин, словно незаживающая рана.
Марионетки у её ног зашептали. Не слова, а сухой, скрежещущий шепот, похожий на трение фарфора о фарфор. Они мелко задрожали, и несколько из них шагнули вперёд, образуя хрупкий, но решительный живой щит между своей Владычицей и неоновыми очами на стенах.
– Я… я не твой враг, – её голос был тихим, дрожащим, с паузами, словно каждое слово причиняло физическую боль. – Они… мои глаза… они видели. Внутри… того здания. Они чувствовали это. Такую… пустоту. От неё… болит здесь…
Она прижала фарфоровую руку к груди, где ткань платья проступала тем самым серебристым светом.
Эоган стоял недвижимо. Его голос, бархатно-хриплый, прозвучал с ледяным спокойствием.
– Наблюдение – не преступление. Но оно рождает вопросы. И у меня к тебе их теперь много.
– Они… их много! – её голос сорвался на высокой ноте, а марионетки зашептали громче, их стеклянные глаза бешено вращались. – Таких… пустых! Они как дыры… в мире! Мне больно на них смотреть! Я… я могу помочь. Мои дети… они везде. Они могут… слышать шёпот… который ты не уловишь.
– Много? – его губы чуть тронула тень чего-то, отдалённо напоминающего усмешку. – Интересно. Ты первая, кто пришёл жаловаться на шум от вселенской тишины. Твои «дети» могут слышать шёпот. А я могу его… прервать. Подумай, чей дар в этом городе полезнее.
Элея замерла. Её серебристые волосы застыли в воздухе, словно прислушиваясь. Она сделала крошечный, почти неуловимый шаг вперед, и марионетки-щиты тревожно вздрогнули.
– Ты… – её голос стал тише, но приобрёл странную, пронзительную ясность. – Ты не просто тишина. Ты… пробел в тексте. Место, где боль должна быть, но её нет. – Она медленно покачала головой, и по её щеке скатилась одна-единственная серебристая слеза, оставляя за собой тонкий, светящийся след. – Это… страшнее. Когда все вокруг кричит, а одно место молчит… оно притягивает внимание. Заставляет искать в нём смысл. Надеяться.
Эоган не моргнул, но его взгляд стал острее, пристальнее. Он изучал её не как угрозу, а как сложное, противоречивое явление.
– Надежда – это неоправданная экстраполяция на основе недостаточных данных, – парировал он, его слова были отточены и холодны, как скальпель. – Ты ищешь смысл в аномалии. Я же классифицирую её. Твоё внимание ко мне – ошибка восприятия. Перенаправь его на реальную угрозу.
– Ошибка? – она тихо рассмеялась, и этот звук был похож на треск тонкого льда. – А что, если твоя «классификация» – это просто способ не чувствовать? Я… я ношу в себе всю боль этого города. А ты… что носит в себе эта тишина, детектив?
Вопрос повис в воздухе, острый и неудобный. Впервые за долгое время кто-то заглянул за его барьер не с вызовом, а с… пониманием? Эоган почувствовал лёгкое, почти забытое напряжение в челюсти.
– Я ношу факты, – отрезал он, но в его голосе впервые проскользнула едва уловимая жёсткость, защитная реакция. – А факты, Кукольница, – единственная валюта, которая что-то значит в этом мире. Боль – всего лишь шум. А против шума… у меня есть свои методы.
Он посмотрел на дрожащих марионеток, а затем вернул взгляд на неё. В его чёрных глазах читалось не отторжение, а холодное, безжалостное признание.
– Ты предлагаешь помощь. Я принимаю ресурсы. Но не ищи во мне отзвука. Его там нет.
Вопрос Элеи повис в воздухе, острый и неудобный. «Что носит в себе эта тишина, детектив?» Эоган почувствовал, как чёрный шрам на его щеке будто на мгновение похолодел ещё сильнее. Он не ответил. Вместо этого его взгляд, тяжёлый и оценивающий, скользнул по её марионеткам, застывшим в готовности защитить свою хозяйку.
– Твои ресурсы, – его голос приобрёл практичную, почти деловую интонацию, отсекая личное. – Эти «дети». Их восприятие. На что оно способно? Конкретно.
Элея медленно выдохнула, и её серебристые волосы заструились чуть спокойнее, словно переключаясь вместе с ней. Она поняла, что отступление закончено. Начался торг.
– Они… чувствуют искажения, – её голос всё ещё дрожал, но в нём появилась странная уверенность знатока, описывающего свой инструмент. – Не саму ложь… а пустоту, что она оставляет. Разрыв между словом и мыслью. Они могут… вести к источнику этого разрыва. Как компас.
– Следопыты лжи, – заключил Эоган, мысленно каталогизируя способность. – А твой контроль? На каком расстоянии?
– Пока я их чувствую… расстояние не имеет значения, – она обняла себя за плечи, жестом, полным незащищённости, который контрастировал с её заявлением. – Но чем дальше… тем тоньше нить. И тем… громче для меня становится их боль, если их повредят.
В этот момент из тумана позади Эогана выплыли ещё две марионетки. Они были не одни. Они вели, почти волокли, человека в серой, потрёпанной униформе. Его маска «Цепного Пса» была сдвинута набок, из-под неё сочилась струйка запёкшейся крови. Он упирался, глаза его были полны животного страха, но фарфоровые пальцы сжимали его запястья с силой стальных тисков. Это был тот самый человек, что пытался скрыться после стычки у особняка.
Элея смотрела на Эогана, и в её огромных серебряных глазах мелькнуло нечто, кроме грусти – напряжённая, болезненная сосредоточенность.
– Они… нашли его. Он… он кричал о зеркалах. О долгах. Он знает… того, кто в стекле застрял…
Эоган медленно, почти театрально повернул голову. Его пальцы сжали подвеску. Он не выразил ни удивления, ни благодарности. Лишь холодный, профессиональный интерес.
– А вот это… уже поинтереснее, – его голос приобрёл металлический, опасный оттенок. – Ты не помогаешь. Ты предоставляешь актив. Объясни, зачем. Или я начну задавать вопросы ему, – он кивнул в сторону пленного, – а твоих «детей» буду использовать как наглядное пособие по хрупкости.
Угроза висела в воздухе, отточенная и реальная. Марионетки Элеи затрепетали, издав сухой, скрежещущий звук. Но сама Кукольница не отступила. Её сияющие глаза наполнились не страхом, а странной решимостью.
– Я устала, – прошептала она, и в этом признании была бездна усталости, накопленной за циклы. – Я устала только чувствовать. Я ношу в себе всю агонию Линн-Кора, и она не имеет смысла! Она просто… есть. Ты… ты превращаешь хаос в порядок. Ты находишь причину. Дай мне причину этой боли. Преврати и мой хаос… в порядок. Это единственная плата, которую я приму.
Эоган замер, изучая её. Он видел не шантаж, не манипуляцию. Он видел экзистенциальную потребность, столь же отчаянную, как и его собственная – потребность в смысле. Она предлагала ему свои глаза и уши, весь свой уникальный, болезненный дар в обмен на то, чего он, возможно, и не мог дать – на логику страдания.
Его взгляд скользнул с неё на дрожащего «Цепного Пса», а затем на его кота, который теперь сидел на карнизе чуть поодаль, его неоновые глаза спокойно наблюдали за разворачивающейся драмой. Весы потенциальной выгоды и новой, хрупкой ответственности качались в его сознании.
Наконец, он медленно кивнул. Это не было согласием. Это было признанием стратегической целесообразности.
– Он твой, – Эоган кивнул на пленного. – Его страх – твоя плата за первый взнос. Но помни, Кукольница, – его голос стал тише, но оттого лишь более веским, – я не исцелитель. Я архивариус. Я могу препарировать твою боль, каталогизировать её и поместить в ячейку с номером. Но я не могу сделать её меньше.
– Этого… и достаточно, – выдохнула Элея, и впервые за весь разговор на её губах дрогнуло нечто, отдалённо напоминающее улыбку – печальную и обречённую. – Иногда… просто знать, что у чего-то есть название… уже легче.
Сделка была заключена. Странный, шаткий альянс между логикой и эмпатией, холодным расчётом и горячей болью, был скреплён дрожью одного испуганного человека и безмолвным согласием другого, который уже видел в этом лишь новый виток своей вечной охоты.