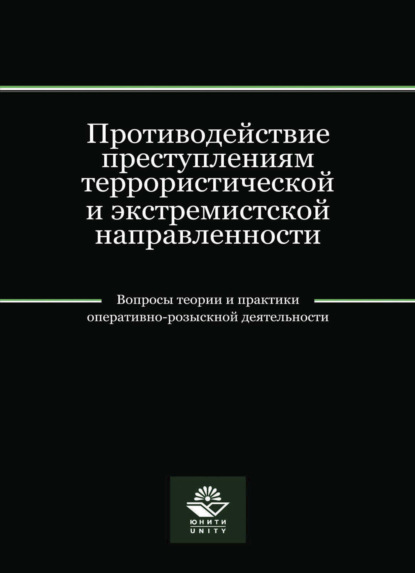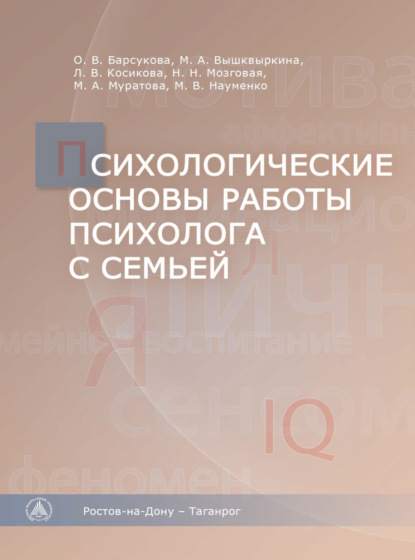- -
- 100%
- +
Жест Портного был не предложением, а молчаливым предупреждением, обращённым через всё пространство: «Видите? Это всё, что от Него можно получить. Холодный отблеск. Красивая, смертоносная иллюзия. Не тянитесь. Ваша душа станет лишь ещё одной пылинкой в ткани Его бесконечного савана.»
Затем Портной развернулся и поплыл вслед за своим уходящим божеством. Безымянный, не оборачиваясь, не ускоряя и не замедляя своего вечного шествия, растворялся в тумане, унося с собой леденящую душу гравитацию Своего присутствия.
Элея выдохнула, она всё ещё дрожала.
– Они… единственные, кто может приблизиться, – прошептала она, глядя в пустоту, где только что была Тень. – Они собирают Его следы. Пытаются понять… как сшить такую пустоту. Как залатать дыру, которую Он оставляет в бытии. Они рискуют собой… ради крох знания. Ради нити, в которой застыл свет, никогда не бывший тёплым.
Эоган в последний раз посмотрел в ту сторону. Его разум, восстанавливаясь после столкновения с непостижимым, уже выстраивал новую, леденящую аксиому. «Сущность: «Безымянный». Угроза: абсолютная, пассивная. Способ взаимодействия: полное игнорирование. Приоритет: низкий (неподвижная цель), критически высокий (при прямом контакте). Связанная группа: «Шепчущие Портные» (статус: исследователи/собиратели, риск: экстремальный).»
Он повернулся к двери Особняка. Теперь она казалась не просто следующей точкой на карте, а убежищем от чего-то бесконечно большего, древнего и безразличного. Убежищем, в котором, однако, ждал ещё один голос. Тот, что звал его по имени.
– Он ушёл, – повторил Эоган, и на этот раз в его голосе была уже не констатация, а решение. – Теперь наша очередь.
Он толкнул массивную, почерневшую от времени дверь. Та поддалась не со скрипом, а с тихим, влажным звуком, будто плоть-камень наконец разрешил им войти. Воздух, хлынувший навстречу, был спёртым и густым, пахнущим пылью, паутиной и чем-то острым, электрическим – тем самым запахом, что вёл Эогана с самого начала.
Они переступили порог. Тьма внутри была не просто отсутствием света. Она была живой, плотной, звучной. И в самой её сердцевине, в конце зала, пульсировал тусклый, серебристый отсвет.
Зеркало ждало.
Глава 8. ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ ПОТЕРЯННЫХ ОТРАЖЕНИЙ
Тьма внутри Особняка была не пассивной, а вязкой и сопротивляющейся, словно они вошли в лёгкие спящего гиганта. Воздух был густым от пыли, но не обычной – это была взвесь из высохших слёз, крупинок штукатурки, смешанной с запёкшейся обидой, и мельчайших осколков разбитых надежд. Эоган дышал мелко, через поднесённую ко рту ткань, но едкий привкус тоски проникал внутрь, оседая на языке металлической горечью.
Они оказались в просторном холле. И первое, что бросилось в глаза – это блеск. Хаотичный, острый, смертоносный.
Зеркала. Они были повсюду. И все они были разбиты.
Не просто треснувшие от времени. Они были уничтожены с методичным, яростным усердием. Маленькие овальные зеркальца в позолоченных рамах, размолотые в блестящую пыль. Большие трюмо, чьи стёкла были иссечены глубокими царапинами, будто по ним водили гвоздём снова и снова. Настенные панели из полированного склеп-металла, вмятины на которых искажали и без того уродливые отражения. Осколки хрустели под ногами, как кости, перемешанные с гниющим паркетом.
Это была не простая разруха. Это была картина тотальной, истеричной войны с самим понятием отражения. Кто-то пытался уничтожить каждую возможность увидеть себя.
– Они боялись, – тихо сказала Элея, её голос дрожал, отражая боль, впитанную из этого места. Её марионетки шли осторожно, их фарфоровые ступни обходили самые крупные осколки. – Не того, что в зеркале… а того, что они могли в нём увидеть. Свои тени… свои «не-я»… Они пытались убить их, разбивая стекло.
Эоган шёл медленно, его взгляд анализировал картину разрушения. Его собственное отражение дробилось в тысячах осколков, превращаясь в калейдоскоп из обрывков чёрной одежды, бледных лиц и пустых глаз. Он видел десятки искажённых версий себя – то слишком худых, то расплывчатых, то с лицами, застывшими в немом крике. Это было неприятно, но не опасно. Эти отражения были пусты. Они не шептали, не звали. Они были просто светом, отражённым от мёртвого стекла.
Именно этот контраст и делал Ту Единственную аномалию в конце зала такой пугающе очевидной.
Среди этого хаоса блестящих осколков и погнутых рам, в дальнем конце зала, стояло оно. «Зеркало Грез».
Оно было огромным, в раме из почерневшего, почти гниющего дерева, покрытого сложной, но стёртой временем резьбой. Но его поверхность… она не была стеклянной. Она не была и металлической. Она напоминала плёнку жидкого серебра, ртути или расплавленного лунного света. Эта поверхность не просто лежала в раме – она дышала. Медленно, лениво переливаясь, она колыхалась, словно завеса из тяжёлого шёлка, подвешенная в безвоздушном пространстве. От неё исходил тот самый, острый, электрический запах, смешанный теперь со сладковатым душком гниющей органики.
И в этой живой, пульсирующей поверхности было Оно. Слепой Торгаш. Его «не-я».
Это была не тень и не призрак. Это была плоская, двумерная сущность, вмёрзшая в серебристую плёнку. Его контуры были человеческими, но внутри не было ничего, кроме сгустка абсолютного отчаяния и ненависти. Его рот был распахнут в беззвучном, непрекращающемся крике, застывшем на вечность. Его глаза были двумя чёрными дырами, в которых угадывался не просто ужас, а бесконечная, кипящая ярость ко всему, что было снаружи. Ко всему, что могло двигаться, дышать, жить, пока он был заперт в этом вечном, беззвучном моменте агонии.
Он не стучал. Он бился. Бил кулаками и головой о изнаночную сторону зеркальной плёнки, и от каждого удара по поверхности расходились круги, как по воде, искажая его и без того уродливую, нестабильную форму. Звука не было, но Эоган чувствовал каждый удар – как вибрацию в костях, как толчок в основание черепа.
А перед зеркалом, спиной к ним, стояла Она.
Её платье было соткано из спокойного пламени, которое не жгло, а светилось, отбрасывая на стены, заваленные осколками, мягкие, золотистые блики. Её волосы были подобны солнечной короне, и в них пульсировал ровный, тёплый свет, казавшийся кощунственным в этом царстве холода и разбитого стекла. От неё исходило сияние, которое делало пыль на разрушенной мебели похожей на золотой песок, а уродство заточённой тени – ещё более чудовищным и одиноким.
Стелларис.
Она не обернулась. Её внимание было целиком поглощено агонией в зеркале.
– Он не слышит меня, – её голос прозвучал не в ушах, а прямо в сознании, как вибрация тёплого ветра, как треск горящих поленьев в камине. В нём была бездна печали, столь же древней, как и сам Линн-Кор. – Я пыталась. Я звала его к тишине, к покою. Я пела ему о свете, который не обжигает. Но то, что там, уже не он. Это его боль, принявшая форму. Его страх перед долгом, его жадность, его трусость… всё, от чего он хотел убежать, срослось в единое чудовище и вытолкнуло его душу. Теперь это чудовище хочет вырваться… и найти нового хозяина. Оно хочет, чтобы его увидели.
Наконец, она медленно повернулась. У неё не было лица в человеческом понимании – лишь слепящее, но доброе сияние, в котором, однако, угадывались черты бесконечной мудрости и сострадания. Её «взгляд» упал на Эогана.
– Зрячий, – произнесла она, и его имя в её «устах» звучало как признание. – Ты видишь суть. Ты видишь связи. Я ждала тебя. Потому что мне нужен ответ. Не на эту… болезнь. – Она кивнула в сторону зеркала, где тень продолжала свою немую пытку. – На вопрос, который старше этого города. Старше нас всех.
Она сделала шаг вперёд, и её сияние на мгновение озарило Элею, стоявшую в тени. Элея вздрогнула, но не от боли, а от невыразимой, чужой нежности, которая обожгла её, привыкшую лишь к боли.
– Есть ли что-то, – голос Стелларис был тише шепота, но каждое слово врезалось в самое сердце, – что может связать две судьбы, обречённые на вечную разлуку? Есть ли нить, которую не может разорвать даже закон мироздания? Я… светлюсь для него. А он… существует лишь в моём свете. Но мы не можем прикоснуться. Не можем говорить. Мы – парадокс. Красивая и ужасная ошибка вселенной. И я хочу знать… есть ли выход? Есть ли у нашей любви… хоть какая-то надежда?
В звенящей тишине зала, под аккомпанемент беззвучных ударов тени в зеркале, повис самый невероятный вопрос, который только могли задать детективу Эогану. Вопрос не о преступлении, а о любви. О смысле. О самой возможности надежды в мире, созданном из отчаяния.
И Эоган, хладнокровный Зрячий, чьё сердце было памятником утрате брата, части самого себя, смотрел на солнечное существо и не находил в своей безупречной логике ни единого готового ответа.
Вопрос Стелларис был о связи иного порядка – не о братстве душ, скреплённых общей кровью испытаний, а о всепоглощающей силе, что тянется через пустоту, о законе притяжения, который сильнее воли и разума. Эоган понимал долг. Он понимал верность. Он носил в себе шрам как обет, данный тому, кто был ему ближе крови. Но это была верность воина, принятая сознательно.
Любовь, о которой говорила Стелларис, была иной – не выбором, а судьбой. Не связью, выкованной в бою, а изначальной, космической данностью, которая сама по себе была и благословением, и проклятием. Его собственная верность была ответом на поступок. Их связь была вопросом, на который не существовало ответа.
Он смотрел на это сияющее существо, ищущее надежды там, где царил лишь закон холодной физики, и впервые его разум, всегда находивший алгоритм для самой безумной аномалии, дал сбой. Логика не могла дать надежду. Она могла лишь констатировать факт их вечной разлуки.
Тишина после вопроса Стелларис была оглушительной. Даже тень в зеркале замерла на мгновение, будто прислушиваясь. Воздух звенел от напряжения между двумя полюсами бытия – холодной, неумолимой логикой Эогана и горячей, отчаянной надеждой солнечного существа.
Элея стояла, затаив дыхание, её серебристые волосы застыли в тревожной статике. Она чувствовала боль Стелларис – древнюю, чистую, как жар звезды, – и её собственная, привыкшая к грязи и хаосу, душа сжималась от этой чужой, возвышенной муки.
Эоган медленно перевёл взгляд с Стелларис на зеркало. На запертое в нём «не-я». На разбитые осколки по всему залу. Его разум, не найдя ответа на её вопрос, автоматически вернулся к тому, что он мог анализировать. К симптомам. К следствиям.
– Вы спрашиваете о связи, которая противоречит законам реальности, – его голос прозвучал низко и ровно, без колебаний, но и без былой бескомпромиссной твёрдости. Он не давал ответа. Он констатировал проблему. – Но ваше присутствие здесь, у этого зеркала… оно не случайно. Вы притянуты сюда не им. – Он кивнул на пульсирующую тень. – Вы притянуты к месту разрыва. К ране.
Стелларис слегка склонила голову, её сияние на мгновение померкло, словно от грусти. – Рана… Да. Здесь больно. Но не только от этого создания. Здесь больно от… пустоты. От того, что должно было быть целым, но разорвано.
– Зеркало, – продолжил Эоган, его взгляд скользнул по осколкам на полу, – это инструмент. Оно не создаёт «не-я». Оно его проявляет. Выявляет ту самую «пустоту», о которой вы говорите. Разрыв между тем, кто человек есть, и тем, кем он боится стать. Между долгом и желанием. Между памятью и забвением.
Он сделал шаг ближе к зеркалу, игнорируя яростные, беззвучные спазмы тени. Его пальцы сжали «лунную подвеску».
– Этот человек, – он указал на «не-я», – пытался сбежать. Не от кредиторов. Он пытался сбежать от себя. Он воспользовался «Зеркалом Грез» не для того, чтобы спрятаться в чужом сне… а для того, чтобы уничтожить собственный. Он пытался совершить побег из самого себя. Полное стирание собственного «я», чтобы больше не нести бремя долга и памяти.
Элея ахнула, прикрыв рот фарфоровой рукой. – Но… оно не дало ему исчезнуть. Оно… вывернуло его наизнанку. Оно показало ему то, от чего он бежал, и заперло в этом.
– Именно, – голос Эогана приобрёл привычные стальные нотки аналитика. – Зеркало не стирает. Оно преломляет. Искажает. Усиливает. Его страх перед долгом превратился в этого монстра. Его жадность… его трусость… всё, что он пытался забыть, сконцентрировалось здесь, в этой двумерной тюрьме. Оно не его душа. Это – его непризнанный грех, принявший форму.
Он повернулся к Стелларис, и его чёрные глаза встретились с её сияющим «взглядом».
– Вы спрашиваете о надежде для связи, которая кажется невозможной. Но посмотрите, что происходит, когда кто-то пытается разорвать связь с самим собой. Когда кто-то пытается убежать от своей собственной сути. Это – результат. Вечная пытка в зазеркалье. Не-бытие, которое кричит.
Он сделал паузу, давая словам проникнуть в самое сердце её света.
– Вы и Безымянный… вы – две части одного целого. Как причина и следствие. Как свет и его отражение. Ваша разлука – это не ошибка. Это – закон. Попытка нарушить его… – он жестом очертил пространство вокруг разбитых зеркал, – приводит к хаосу. К боли. К рождению таких чудовищ.
Стелларис слушала, и её сияние медленно менялось. В нём всё ещё была грусть, но теперь к ней добавилось нечто иное – понимание. Горькое, безрадостное, но чистое.
– Ты говоришь… что наша связь не должна быть нарушена, – прошептала она. – Что наша разлука… это и есть условие нашего существования. Что надеяться на соединение – всё равно что надеяться, чтобы тень стала светом.
– Я говорю, что некоторые законы незыблемы, – поправил её Эоган. – Что борьба с ними рождает только страдание. Ваш свет не может согреть его пустоту. Его пустота не может погасить ваш свет. Вы определяете друг друга. И в этом определении… и есть ваша связь. Вечная. Нерушимая. И… бесконечно одинокая для каждого из вас.
В зале снова воцарилась тишина. Давление спало. Тень в зеркале перестала биться и просто висела в серебристой плёнке, её безглазая маска была обращена в никуда.
Стелларис медленно кивнула. По её сияющему лицу скатилась одна-единственная слеза – не из воды, а из чистого, сгущённого света. Она упала на пыльный пол и исчезла, не оставив следа.
– Спасибо, Зрячий, – её голос прозвучал в их сознании в последний раз, тихий и умиротворённый. – Ты не дал мне надежды… но ты дал мне истину. А иногда… это единственное, что может успокоить боль.
Её сияние стало медленно тускнеть, растворяясь в темноте зала. Она не уходила. Она просто переставала быть видимой, возвращаясь к своему вечному дозору, к своему вечному ожиданию.
Эоган стоял, глядя на пустое место, где она только что была. Он не чувствовал триумфа. Он выполнил свою работу. Он диагностировал проблему и дал диагноз. Но впервые за долгое время этот диагноз оставил у него странный, тяжёлый осадок на душе. Он снова повернулся к зеркалу. К «не-я». К проблеме, которая, в отличие от звёзд, имела решение.
– А теперь, – его голос снова приобрёл привычную, безжалостную твёрдость, – разберёмся с этим.
Слова Эогана повисли в воздухе не приговором, а инструментом. Информация была собрана, диагноз поставлен. Теперь наступала фаза процедуры. «Не-я» в зеркале, будто почувствовав сдвиг в намерениях Зрячего, снова пришло в движение. Но теперь его беззвучные удары по изнаночной стороне серебристой плёнки были не просто проявлением ярости. В них сквозила лихорадочная, животная паника. Оно поняло, что из объекта наблюдения превращается в цель.
Эоган стоял неподвижно, его пальцы сомкнулись вокруг «Лунной подвески». Холодный сапфир в её центре отозвался едва уловимой вибрацией. Он не вызывал глаза на стенах – в этом месте, пропитанном искажёнными отражениями, его дар мог повести себя непредсказуемо. Вместо этого он обратился к своему второму, безмолвному союзнику.
– Элея, – его голос был ровным, лишённым какого-либо приказа, это была констатация необходимости. – Его боль. Можете ли вы… локализовать её? Не поглотить. Создать вокруг него контур. Отделить его ярость от памяти о том, кем он был.
Элея, всё ещё находясь под впечатлением от ухода Стелларис, вздрогнула и медленно кивнула. Её серебристые волосы заструились, а марионетки синхронно сделали шаг вперёд, окружая зеркало полукругом. Они не смотрели на него. Они смотрели сквозь него, их стеклянные глаза были устремлены в точку за серебристой плёнкой, туда, где пульсировал клубок чужой, одичавшей агонии.
– Я… попробую, – выдохнула она, и её голос был полон напряжения. – Его ненависть… она такая громкая… такая липкая. Она хочет прицепиться ко всему.
Фарфоровые куклы подняли руки. Их пальцы не касались зеркала, но воздух вокруг него начал мерцать, словно в сильной жаре. Беззвучные удары «не-я» стали резче, отчаяннее. Оно чувствовало, как его изолируют, как пространство вокруг него сжимается, лишая его связи с внешним миром, который оно так ненавидело.
В этот момент Эоган действовал. Он не стал взывать к Пустоте, как с Симбионтом. Здесь требовался иной, более тонкий подход. «Зеркало Грез» было не просто аномалией, а сложным механизмом, гипертрофировавшим то, что уже было внутри.
Он подошёл вплотную к зеркалу, игнорируя искажённое отражение своего лица в колышущейся поверхности. Его собственный чёрный шрам казался в нём живой, извивающейся змеёй.
– Ты – не он, – произнёс Эоган, обращаясь напрямую к тени. Его голос был низким и негромким, но каждое слово обладало весом и чёткостью алмаза. – Ты – его долг, который он посчитал невыносимым. Его жадность, которой он стыдился. Его страх, который он не смог преодолеть. Ты – его отказ от самого себя.
«Не-я» затряслось в немом вопле, его контуры поплыли, стало расплываться.
– Он хотел уничтожить тебя, уничтожив себя, – продолжал Эоган, его взгляд был пристальным и безжалостным. – Но уничтожить можно только то, что признаёшь. Он не признал тебя. Он убежал. И оставил тебя здесь. Одинокого. В ловушке.
Марионетки Элеи сомкнули круг. Воздух вокруг зеркала сгустился, стал вязким и тягучим. Визуальный шум, исходящий от «не-я», начал стихать, его ярость упиралась в невидимый барьер, созданный концентрацией чужой, отфильтрованной боли.
– Ты не можешь существовать без него, – заключил Эоган. – А он… не может вернуться, пока ты здесь. Это пат. Тупик. Вечность в зеркальной клетке.
Он сделал паузу, давая последней фразе достичь цели. И затем сменил тактику. Он не предлагал прощения или примирения. Он предложил логичный выход. Единственный, возможный в данной системе координат.
– Но клетку можно открыть, – его голос приобрёл металлический оттенок. – Не для того, чтобы выпустить тебя. А для того, чтобы растворить. Вернуть в небытие, из которого он тебя вызвал, но так и не признал. Ты – ошибка. Ошибка подлежит исправлению.
Он поднял «Лунную подвеску». Сапфир не вспыхнул ослепительным светом. Он стал тёмным, почти чёрным, и из его глубины потянулись тончайшие, невидимые глазу нити. Они не атаковали «не-я». Они вплетались в саму ткань зеркала, в его серебристую, пульсирующую поверхность. Эоган не уничтожал аномалию. Он переписывал её протокол.
Он использовал свой дар не как таран, а как скальпель. Он находил в энергетическом отпечатке «не-я» память о долге – не как о бремени, а как о факте. О жадности – не как о пороке, а как о данности. О страхе – не как о слабости, а как о части человеческой природы. Он не оправдывал их. Он каталогизировал. Превращал эмоциональный хаос в сухую, безжизненную информацию.
И без подпитки гипертрофированными эмоциями, без ярости и ненависти, «не-я» начало терять форму. Его контуры поплыли, расплылись, стали прозрачными. Его беззвучный крик затих. Последнее, что можно было разглядеть, – это не лицо, а подобие облегчения на том, что никогда лицом не было. Затем серебристая поверхность зеркала успокоилась, перестала колыхаться и стала просто мутной, мёртвой плёнкой в почерневшей раме.
Элея опустила руки, её марионетки замерли. Воздух в зале перестал вибрировать.
– Готово, – произнёс Эоган, опуская подвеску. Его голос был пустым. В нём не было ни удовлетворения, ни сожаления. Констатация факта. Очередное дело закрыто.
Он обернулся и, не оглядываясь на пустое зеркало, направился к выходу. Элея с её марионетками последовала за ним, оставляя позади тишину, которая на этот раз была не зловещей, а просто… пустой.
Глава 9. ПРЕДВЕСТИЕ ШУМА И БЕЗМОЛВИЯ
Тяжесть, оставшаяся после Особняка, была иного порядка. Это был не груз фактов или угрозы, а ощущение пустоты, вывернутой наизнанку. Эоган шёл, и его шаги по влажному плоть-камню отдавались в тишине не эхом, а словно впитывались ею, как «Слуховыми Пиявками». Они с Элеей миновали переулок, где видели «Шепчущего Портного», и вышли на более широкую улицу. Давление здесь было иным – не сжатым в точку, а размазанным по всему пространству, от края пульсирующего синяка неба до самой почвы.
И тогда они увидели Их.
Вначале – лишь отсвет. Далёкий, мягкий, тёплый, он прорезал общую синеву «Бдения Зрачка» не лучом, а скорее размытым пятном, как капля мёда на мокром стекле. Стелларис. Она плыла в вышине, над готическими шпилями, и её сияние было столь же безмятежным, сколь и бесконечно печальным. Оно не слепило, а согревало взгляд, обещая успокоение, которого не могло быть в этом мире. В её свете уродство Линн-Кора не исчезало, но приобретало странную, трагическую завершённость, как руины великого собора при закате.
Элея замерла, её серебристые волосы заструились, потянувшись к далёкому теплу. По её фарфоровой щеке скатилась «слёзница», на этот раз не от боли, а от щемящего, невыразимого чувства – смеси благоговения и сострадания.
– Она… несёт его в себе, – прошептала она. – Всю его тяжесть. Всю его пустоту. И всё равно светит.
Эоган наблюдал, его аналитический ум фиксировал феномен. Сущность: «Стелларис». Наблюдаемый эффект: пассивное излучение, несущее психологический комфорт и ясность восприятия. Угроза: нулевая. Примечание: является источником существования для аномалии «Безымянный».
И будто в ответ на его мысли, из гущи тумана, точно из тени самой Стелларис, проступил Он.
Безымянный не шёл. Он был вечным спутником, движущимся по незыблемой орбите. Его ритмичная, неумолимая поступь была подобна ходу часов Судного дня. Свет Стелларис падал на Его матово-белую кожу, и она загоралась тусклым, отражённым сиянием, в котором проступали тёмные проёмы-кратеры – бездны, ведущие в ничто. Его волосы-сосульки, толстые и твёрдые, мерцали изнутри крошечными, холодными огоньками, словно в них были заперты далёкие, мёртвые созвездия.
Но главное – Его лицо. Или его отсутствие. Идеально гладкая, матовая маска, чёрная дыра, всасывающая в себя не только свет, но и саму мысль о лике. Долгий взгляд на неё рождал не страх, а странное, тягучее головокружение, ощущение, что сознание вот-вот сорвётся в этот бездонный колодец вечного одиночества.
– Не смотри, – снова, как в переулке, предупредила Элея, но на этот раз её голос звучал не с ужасом, а с усталой покорностью. – Он не видит нас. Он видит только Её. Мы для Него – лишь пыль на луче её света.
Они стояли, заворожённые этим безмолвным шествием. Два полюса бытия. Свет, который не мог согреть свою тень. И тень, которая могла существовать лишь отражённым светом. Их связь была древнее Линн-Кора, законом мироздания, не требующим объяснений и не оставляющим места для надежды. Это была не драма, а геометрия. Не трагедия, а аксиома.
И так же безмолвно, как появились, они растворились в багровых прожилках неба – Стелларис впереди, как путеводная звезда, и Безымянный позади, как её вечный, безглазый страж.
Эоган медленно перевёл дыхание. В его сознании, поверх холодных терминов, всплыла чужая, давно похороненная фраза: «Мы все – лунный свет, отражённый от кого-то другого». Он резко отбросил её, как ненужный шум.
– Движемся, – его голос прозвучал грубее, чем он планировал.
Они свернули с опустевшей улицы, и городская симфония снова накрыла их. Но это была уже не знакомая какофония. Гул раны, скрежет костей и шёпот тумана потонули в новом, нарастающем звуке. Он исходил не из одного источника, а из самого города, из миллионов его пор. Это был гул ожидания. Гул затаённого дыхания перед коллективным выдохом забвения.
И тогда они вышли на главную артерию, ведущую к площади Собора Святого Разложения. И здесь мир изменился.
Воздух стал густым, вязким, словно его замесили на электрической статике и приглушённых стонах. Туман редел, но не от света, а от давления, исходящего от бесчисленных «Свечей Забвения» в окнах. Их синевато-белые огоньки не освещали, а выедали из пространства цвет, звук, память. Люди на улицах двигались словно во сне, их лица были масками отрешённости, а глаза смотрели куда-то внутрь себя, на свои собственные, готовящиеся к сожжению «Ключи».
И в самый центр этого всеобщего оцепенения, на площадь перед мрачным фасадом Собора, был вбит клин иной реальности.